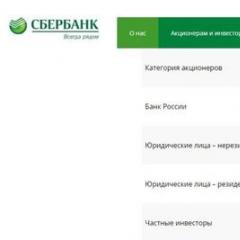«Жизнь и судьба. Солженицын, Александр Исаевич – жизнь и произведения Тяжелые военные годы
В судьбе Александра Исаевича Солженицына события, обычные для судеб миллионов его сограждан, сплелись с событиями редкими и даже исключительными. Будущий писатель родился в Кисловодске. Его отец, родом крестьянин, участник Первой мировой, не дожил полугода до рождения сына. Мать Солженицына происходила из богатой кубанской семьи и была хорошо образованна, но это только мешало ей, вынужденной растить сына одной, получать стабильную работу: "Ее подвергали чистке, это значит - увольняли с ограниченными правами на будущее". Александр был искренним пионером и комсомольцем, и все же лет до шести, пока не закрылась церковь в Ростове-на-Дону, где прошло его детство, он, как завороженный, посещал службы.
После школы была параллельная на физико-математическом факультете Ростовского университета и (заочно) в знаменитом МИФЛИ, участие в Великой Отечественной войне с осени 1941-го до февраля 1945 г.
Артиллерист Солженицын, получивший орден за взятие Орла и проявивший личный героизм в боевых операциях в Восточной Пруссии, в феврале 1945 г. был арестован за непочтительное упоминание Ленина и Сталина в письмах к другу, повидал Лубянскую и Бутырскую тюрьмы, осужден по статье 58, сидел в лагерях Нового Иерусалима, Москвы, Экибастуза. В 1952 г. у Солженицына обнаружили рак, от которого он как будто выздоравливает. Через год его освобождают и переводят на вечное ссыльнопоселение в аул Кок-Терек (Казахстан). Но опухоль все-таки дает метастазы, и Солженицыну разрешают выехать на лечение в Ташкент.
В 1956 г. Солженицын реабилитирован. Он едет в Москву, в Ростов, затем устраивается в Рязани и работает учителем физики в школе, по ночам тайно сочиняя свой первый роман...
Между датой написания произведений Солженицына и датой их выхода в свет обычно проходило много времени. Дело здесь не только в том, что время воссоединения официально признанной литературы с самиздатом и время "возвращения" к читателю неопубликованных рукописей пришлось только на конец 1980-х годов, но и в том, что Солженицын часто сам затягивал публикацию книги, ожидая момента, когда она вызовет максимальный общественный резонанс.
Литературная деятельность Солженицына была строго конспиративной. Он привык к бисерному почерку своих рукописей, к единственным машинописным их экземплярам. В дальнейшем Солженицыну повезло с публикациями в журнале "Новый мир", тогдашнем средоточии свободной мысли в литературе, прославившем его имя; ему посчастливилось общаться с А.Т. Твардовским. Его ожидали долгая дружба с великим музыкантом М. Ростроповичем, изгнание из страны, жизнь в США в штате Вермонт, шумная слава на рубеже 1980 - 1990-х годов и, наконец, долгожданное возвращение в родную страну.
Вернувшись, писатель выступал по радио и телевидению. На страницах "Литературной газеты" отнюдь не странно было видеть программу "Как нам обустроить Россию" (1990) - уходили в политику. Но вот прошло десятилетие, и средства массовой информации уже давно не уделяют Солженицыну большого внимания. Та же "Литературная газета" спрашивает: "Насколько правомерно с нашей стороны ожидать от него ответов на все вопросы?"
Судьба Солженицына стала материалом для многих его произведений и отразилась в судьбах его персонажей: Глеба Нержина ("В круге первом"), Ивана Денисовича Шухова ("Один день Ивана Денисовича"), Немова ("Олень и шалашовка"), Олега Костоглотова ("Раковый корпус"), Игнатьича ("Матренин двор").
И все же масштаб писателя определяется созданными им картинами народной жизни. С.П. Залыгин говорил о Солженицыне: "Вот он - этот народ! ГУЛАГ с Иваном, Матренина изба с тараканами, квартира советского дипломата, "золотое" КБ..."
На историческом портрете эпохи, данном Солженицыным, многие персонажи - реальные лица. Здесь и царь Николай Второй, и Столыпин; здесь и Рубин (правозащитник Лев Копелев); здесь и простая крестьянка Матрена Захарова, у которой учитель Солженицын
снимал комнату и которая погибла под колесами поезда... В его книгах эти неравнозначные фигуры становятся художественно равноценными. Обладая прекрасной памятью и к тому же привычкой вести записные книжки, писатель собирает обширный материал, художественно выстраивает его вокруг "узлов" сюжета и стремится отобразить время адекватно восприятию читателя, так, чтобы изображаемое ожило.
Эстетическая позиция писателя выражена во многих его произведениях, среди которых выделяется воспоминаний "Бодался теленок с дубом" (1975). "Никому не перегородить путей правды", - пишет Солженицын. Это - о позиции писателя в обществе. Это - о красоте правды. Его книги вдохновлены и самой историей, и неистовым желанием автора докопаться до правды и рассказать о том, что осталось незамеченным в старых хрониках или скрытым за стенами лагерей, но насущно необходимо человеку, как хлеб и вода. Первостепенную важность имеет его мысль: "Не нравственно - писать то, что можно не писать". Писатель доказывает, что пишет только о самом важном для страны. Важна точка зрения писателя и на композицию своих книг, отразившаяся в построении многих произведений - от "Архипелага ГУЛАГ" до "Красного колеса".
Мысли о литературе и искусстве, самое прямое выражение эстетической позиции писателей - нобелевских лауреатов привычно искать в их Нобелевских лекциях. Солженицын в эту традицию не вписывается: "Хотел бы я говорить только об общественной и государственной жизни Востока, да и Запада, в той мере, как доступен был он моей лагерной сметке... Никому из писателей свободного мира и в голову не приходило говорить о том, у них ведь другие есть на то трибуны, места и поводы; западные писатели, если лекцию читали, то - о природе искусства, красоты, природе литературы. Камю это сделал с высшим блеском французского красноречия. Должен был и я, очевидно, о том же. Но рассуждать о природе литературы или возможностях ее - тягостная для меня вторичность... И такую лекцию мою - каково будет прочитать бывшим зэкам? Для чего ж мне был голос дан и трибуна? Испугался? Разнежился от славы? Предал смертников?"
Заявление Солженицына о том, что разговоры об искусстве вторичны, не следует считать исчерпывающим. Недавно в печати стали появляться его заметки о писателях и литературе. Вызывает интерес его подробный анализ чеховских рассказов ("Окунаясь в Чехова", 1998). Солженицын старается понять, почему Чехов - мастер именно этого жанра, и приходит к выводу: "Для романного обзора, охвата нужны ведущие мысли. А у Чехова чаще вот эти бесконтурные: благородство труда! надо трудиться! или: через 20 - 30 - 200 лет будет счастливая жизнь".
Такой ведущей мыслью для самого Солженицына стала мысль об истории страны, о ГУЛАГе. Неслучайно в творчестве Чехова он считает одним из лучших рассказ "В ссылке": "Просто поразительно, как Чехов так переимчиво и полно воспринял и передал мирочувствие вечного зэка, вечного ссыльного, семикаторжного (отличное слово). Чтоб этим проникнуться - надо самому прожить и много лет таких".
Еще до войны Солженицын захотел стать писателем. Уже в 1937 - 1938 гг., в Ростове-на-Дону, будучи студентом, он собирает исторические материалы, которые гораздо позже пригодятся ему для работы над обширным повествованием "Красное колесо". Но творческая биография Солженицына началась с романа "В круге первом" (1955-1968, 1990) и повести "Один день Ивана Денисовича" (1959, 1962).
Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в городе Кисловодск в семье крестьянина и казачки. Бедствующая семья Александра в 1924 году переехала в Ростов-на-Дону. С 1926 года будущий писатель обучался в местной школе. В это время он создает свои первые эссе и стихотворения.
В 1936 году Солженицын поступил в Ростовский университет на физико-математический факультет, продолжая при этом заниматься литературной деятельностью. В 1941 году писатель окончил Ростовский университет с отличием. В 1939 году, Солженицын поступил на заочное отделение факультета литературы в Московский Институт философии, литературы и истории, однако из-за начала войны не смог его окончить.
Вторая мировая война
Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. С 1941 года писатель служил в 74-ом транспортно-гужевом батальоне. В 1942 году Александра Исаевича направили в Костромское военное училище, по окончанию которого он получил звание лейтенанта. С 1943 года Солженицын служит командиром батареи звуковой разведки. За военные заслуги Александр Исаевич был награжден двумя почетными орденами, получил звание старшего лейтенанта, а затем капитана. В этот период Солженицын не прекращал писать, вел дневник.
Заключение и ссылка
Александр Исаевич критически относился к политике Сталина , в своих письмах к другу Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году писатель был арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку (по 58-й статье). Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография которого и так была достаточно непростой, обнаружили рак.
Годы заключения нашли отражение в литературном творчестве Солженицына: в произведениях «Люби революцию», «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Знают истину танки» и др.
Конфликты с властями
Поселившись в Рязани, писатель работает учителем в местной школе, продолжает писать. В 1965 году КГБ захватывает архив Солженицына, ему запрещают публиковать свои произведения. В 1967 году Александр Исаевич пишет открытое письмо Съезду советских писателей, после которого власти начинают воспринимать его как серьезного противника.
В 1968 году Солженицын заканчивает работу над произведением «Архипелаг ГУЛАГ» за границей выходят «В круге первом» и «Раковый корпус».
В 1969 году Александр Исаевич был исключен из Союза писателей. После публикации за границей в 1974 году первого тома «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын был арестован и выслан в ФРГ.
Жизнь за границей. Последние годы
В 1975 – 1994 годах писатель посетил Германию, Швейцарию, США, Канаду, Францию, Великобританию, Испанию. В 1989 году «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые опубликован в России в журнале «Новый мир», вскоре в журнале публикуется и рассказ «Матренин двор» .
В 1994 году Александр Исаевич возвращается в Россию. Писатель продолжает активно заниматься литературной деятельностью. В 2006 – 2007 годах выходят первые книги 30-томного собрания сочинений Солженицына.
Датой, когда оборвалась трудная судьба великого писателя, стало 3 августа 2008 года. Солженицын умер в своем доме в Троице-Лыкове от сердечной недостаточности. Похоронили писателя в некрополе Донского монастыря.
Хронологическая таблица
Другие варианты биографии
- Александр Исаевич был дважды женат – на Наталье Решетовской и Наталье Светловой. От второго брака у писателя трое талантливых сыновей – Ермолай, Игнат и Степан Солженицыны.
- В краткой биографии Солженицына нельзя не упомянуть, что он был удостоен более двадцати почетных наград, среди которых Нобелевская премия за произведение «Архипелаг ГУЛАГ».
- Литературные критики нередко называют Солженицына
А.И.Солженицын родился 11 декабря 1918 г. в г. Кисловодске. Рано потерял отца. Будучи студентом дневного отделения физико-математического факультета Ростовского университета, поступил на заочное отделение Московского института философии и литературы. Осенью 1941 г. был призван в армию, окончил годичное офицерское училище и был направлен на фронт. Награжден боевыми орденами. В 1945 г. арестован и осужден за антисоветскую деятельность на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Затем сослан в Казахстан.
«Хрущевская оттепель» открыла Солженицыну путь в большую литературу. В 1962 г. журнал «Новый мир» напечатал его повесть «Один день Ивана Денисовича», в 1963 г. — еще три рассказа, включая «Матренин двор». В 1964 г. Солженицын был представлен на получение Ленинской премии, но не получил ее. Книги «В круге первом» (опубликована в 1968, в полной редакции — в 1978 г.), «Раковый корпус» (1963-66), «Архипелаг ГУЛАГ» (1973-1980) выходили уже в самиздате и за границей. В 1969 г. Солженицына исключили из Союза писателей. Сообщение о присуждении ему Нобелевской премии 1970 года вызвало новую волну репрессий, в 1974 г. писатель был выслан из СССР на долгие 20 лет. В эмиграции Солженицын работал над многотомной исторической эпопеей «Красное колесо», писал автобиографическую прозу («Бодался теленок с дубом», 1975), публицистические статьи. Писатель счел возможным вернуться на Родину в. 1994 г.
Фигура Солженицына заметно выделяется на фоне литературной истории XX века. Этот писатель занял в духовной культуре современной России особое место. Сама его судьба и характер творчества заставляют вспомнить о великом подвижничестве русских писателей прошлых эпох, когда литература в сознании гражданского общества была окружена едва ли не религиозным почитанием. В 1960-е-1980-е гг. именно Солженицын воспринимался в России как воплощение совести нации, как высший нравственный авторитет для современников. Подобная авторитетность в сознании русского человека издавна связывалась с независимостью по отношению к власти и с особым «праведническим» поведением — смелым обличением общественных пороков, готовностью гарантировать правдивость своей «проповеди» собственной биографией, серьезнейшими жертвами, приносимыми во имя торжества истины.
Одним словом, Солженицын относится к тому редкому в XX веке типу писателей, который сложился в русской культуре прежнего века — к типу писателя-проповедника, писателя-пророка. Впрочем, общественный темперамент Солженицына не должен заслонять от нас собственно художественных достоинств его прозы (как это часто происходит в школе, например, с фигурой Н.А.Некрасова). Ни в коем случае нельзя сводить значение творчества Солженицына к открытию и разработке им так называемой «лагерной темы».
Между тем в сознании рядового читателя имя Солженицына связывается обычно именно с этим тематическим комплексом, а достоинства его прозы нередко характеризуются словами «правдивость», «разоблачение тоталитарного насилия», «историческая достоверность». Все названные качества действительно присутствуют в творчестве писателя. Более того, своей повестью «Один день Ивана Денисовича», опубликованным в 1962 г., Солженицын оказал беспрецедентное по силе воздействие на умы и души современников, открыл для большинства из них целый новый мир, а главное — установил в тогда еще «советской» литературе новые критерии подлинности.
Однако художественный мир Солженицына — это не только мир лагерного страдания. Тайно читая его книги (едва ли не самой читаемой из них был «Архипелаг ГУЛАГ»), российские читатели 1960-х-1980-х гг. ужасались и радовались, прозревали и негодовали, соглашались с писателем и отшатывались от него, верили и не верили. Солженицын — вовсе не бытописатель лагерной жизни, но и не публицист-обличитель: обличая, он никогда не забывал о точности и художественной выразительности изображения; воспроизводя жизнь с высокой степенью конкретности, не забывал о важности преподносимого литературой «урока». В писательской индивидуальности Солженицына сплавились дотошность ученого исследователя, высочайшая «педагогическая» техника талантливого учителя — и художественная одаренность, органическое чувство словесной формы. Как не вспомнить в этой связи о том, что будущий писатель одновременно овладевал в студенческие годы профессией учителя математики и навыками литератора.
Интересна сама внутренняя тематическая структура прозы писателя (отчасти совпадающая с той последовательностью, в какой приходили к читателю произведения Солженицына): сначала повесть «Один день Ивана Денисовича» (квинтэссенция «лагерной» темы); затем роман «В круге первом» (жизнь ученых-лагерников в закрытом исследовательском институте — с более «щадящим» режимом и с возможностью общения с умными, интересными коллегами по «интеллигентной» работе); повесть «Раковый корпус » (о борьбе с болезнью бывшего зэка, а теперь ссыльного); рассказ «Матренин двор» (о «вольной» жизни бывшего ссыльного, пусть эта «вольная» деревенская жизнь лишь немногим отличается от условий ссылки).
Как писал один из критиков, Солженицын будто создает своей прозой лестницу между лагерным адом и вольной жизнью, выводит своего героя (а вместе с ним — читателя) из тесной камеры в широкое нестесненное пространство — пространство России и, что особенно важно, пространство истории. Перед читателем открывается большое историческое измерение: одна из главных книг Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» посвящена не столько истории лагерей, сколько всей российской истории XX века. Наконец, самое крупное произведение писателя — эпопея «Красное колесо» — прямо подчинено теме судьбы России, исследует те родовые свойства русского национального характера, которые способствовали сползанию страны в пропасть тоталитаризма.
Солженицын как бы восстанавливает связь времен, ищет истоки общенационального «заболевания» — потому что верит в возможность очищения и возрождения (сам писатель предпочитает негромкое слово «обустройство»). Именно вера — краеугольный камень мировоззрения Солженицына. Он верит в силу правды и праведничества, в силу духа русского человека, верит в общественную значимость искусства. Истоки мировоззренческой позиции писателя — в религиозно-философских учениях той группы русских мыслителей, которые в начале XX века стали участниками философско-публицистических сборников «Вехи» и «Из глубины», в трудах С.Булгакова, С.Франка, Н.Бердяева, Г.Федотова. Писатель убежден в необходимости солидарных, «артельных» усилий в деле восстановления нормальной жизни. Красноречив в этом отношении заголовок одной из его публицистических работ — «Как нам обустроить Россию».
Таковы общие очертания мировоззренческой позиции Солженицына. Однако сколь бы ни были валены для понимания произведений писателя его убеждения, главное в его наследии — живая убедительность художественного текста, художническая оснастка, стилевая индивидуальность.
История жизни Александра Исаевича Солженицына (11.XII.1918, Кисловодск) - это история бесконечной борьбы с тоталитаризмом. Уверенный в абсолютной нравственной правоте этой борьбы, не нуждаясь в соратниках, не страшась одиночества, он всегда находил в себе мужество противостоять советской системе - и победил в этом, казалось бы, совершенно безнадежном противостоянии. Его мужество было выковано всем опытом жизни, пришедшейся на самые драматические изломы советского времени. Те обстоятельства русской социально-исторической действительности 30-50-х годов, которые ломали и крушили твердые, как сталь, характеры профессиональных революционеров и бравых красных комдивов, лишь закалили Солженицына и приготовили его к главному делу жизни. Скорее всего и литературу он избрал как орудие борьбы - она отнюдь не самоценна для него, а значима постольку, поскольку дает возможность представительствовать перед миром от лица всех сломленных и замученных системой.
Окончание физико-математического факультета Ростовского университета и вступление во взрослую жизнь пришлось на 1941 г. 22 июня, получив диплом, Солженицын приезжает на экзамены в Московский институт истории, философии, литературы (МИФЛИ), на заочных курсах которого учился с 1939 г. Очередная сессия совпала с началом войны. В октябре мобилизован в армию, вскоре зачислен в офицерскую школу в Костроме. Летом 1942 г. - звание лейтенанта, а в конце - фронт: Солженицын командует «звукобатареей» в артиллерийской разведке. Офицером-артиллеристом он проходит путь от Орла до Восточной Пруссии, награждается орденами.
9 февраля 1945 г. капитана Солженицына арестовывают на командном пункте его начальника, генерала Травкина, который спустя год после ареста дает своему бывшему офицеру характеристику, где перечисляет, не побоявшись, все его заслуги - в том числе ночной вывод из окружения батареи в январе 1945 г., когда бои шли уже в Пруссии. После ареста - лагеря: в Новом Иерусалиме, в Москве у Калужской заставы, в спецтюрьме № 16 в северном пригороде Москвы (Марфинская «шарашка», описанная в романе «В круге первом», 1955-1968). С 1949 г. - лагерь в Экибастузе (Казахстан). С 1953 г. Солженицын - «вечный ссыльнопоселенец» в глухом ауле Джамбульской области, на краю пустыни. В 1956 г. - реабилитация и сельская школа в поселке Торфопродукт недалеко от Рязани, где недавний зэк учительствует, снимая комнату у Матрены Захаровой, ставшей прототипом хозяйки «Матрениного двора» (1959). В 1959 г. Солженицын «залпом», за три недели, создает повесть, при публикации получившую название «Один день Ивана Денисовича», которая после долгих хлопот А.Т. Твардовского и с благословления самого Н.С. Хрущева увидела свет в «Новом мире» (1962. № 11). С середины 50-х годов начинается наиболее плодотворный период творчества писателя: создаются романы «Раковый корпус» (1963-1967) и «В круге первом» (оба публикуются в 1968 г. на Западе), идет начатая ранее работа над «Архипелагом ГУЛАГ» (1958-1968; 1979) и эпопеей «Красное колесо» (работа над большим историческим романом «Р-17», выросшим в эпопею «Красное колесо», начата в 1964 г.).
В 1970 г. Солженицын становится лауреатом Нобелевской премии; выезжать из СССР он не хочет, опасаясь лишиться гражданства и возможности бороться на родине, - поэтому личное получение премии и речь нобелевского лауреата пока откладываются. В то же время его положение в СССР все более ухудшается: принципиальная и бескомпромиссная идеологическая и литературная позиция приводит его к исключению из Союза писателей (ноябрь 1969 г.), в советской прессе разворачивается кампания травли писателя. Это заставляет его дать разрешение на публикацию в Париже книги «Август четырнадцатого» (1971) - первого «Узла» эпопеи «Красное колесо». В 1973 г. в парижском издательстве ИМКА-Пресс увидел свет первый том «Архипелага ГУЛАГ».
В феврале 1974 г. на пике разнузданной травли, развернутой в советской прессе, Солженицына арестовывают и заключают в Лефортовскую тюрьму. Но его ни с чем не сравнимый авторитет у мировой общественности не позволяет советскому руководству просто расправиться с писателем, поэтому его лишают советского гражданства и высылают из СССР. В ФРГ, первой стране, принявшей изгнанника, он останавливается у Генриха Белля, после чего поселяется в Цюрихе (Швейцария). В 1975 г. опубликована автобиографическая книга «Бодался теленок с дубом» - подробный рассказ о творческом пути писателя от начала литературной деятельности до второго ареста и высылки и очерк литературной среды 60-70-х годов.
В 1976 г. писатель с семьей переезжает в Америку, в штат Вермонт. Здесь он работает над полным собранием сочинений и продолжает исторические исследования, результаты которых ложатся в основу эпопеи «Красное колесо».
Солженицын всегда был уверен в том, что вернется в Россию, - даже тогда, когда сама мысль об этом казалась невероятной. Но уже в конце 80-х годов возвращение стало постепенно осуществляться. В 1988 г. Солженицыну было возвращено гражданство СССР, а в 1990 г. в «Новом мире» публикуются романы «В круге первом» и «Раковый корпус». В 1994 г. писатель вернулся в Россию. С 1995 г. в «Новом мире» публикуются новый цикл - «двучастные» рассказы, миниатюры «Крохотки».
В творчестве А.И. Солженицына при всем его многообразии можно выделить три центральных мотива, тесно связанных друг с другом. Сконцентрированные в первой опубликованной его вещи «Один день Ивана Денисовича», они развивались, подчас обособленно друг от друга, но чаще взаимопереплетаясь. «Вершиной» их синтеза стало «Красное колесо». Условно эти мотивы можно обозначить так: русский национальный характер; история России XX века; политика в жизни человека и нации в нашем столетии. Темы эти, разумеется, вовсе не новы для русской реалистической традиции последних двух столетий. Но Солженицын, человек и писатель, почти панически боящийся не только своего участия в литературной группировке, но и любой формы литературного соседства, смотрит на все эти проблемы не с точки зрения писателя того или иного «направления», а как бы сверху, самым искренним образом направления игнорируя. Это вовсе не обеспечивает объективность, в художественном творчестве, в сущности, невозможную, - Солженицын очень субъективен. Такая открытая литературная внепартийность обеспечивает художественную независимость - писатель представляет только себя и высказывает только свое личное, частное мнение; станет ли оно общественным - зависит не от поддержки группы или влиятельных членов «направления», а от самого общества. Мало того, Солженицын не подлаживается и под «мнение народное», прекрасно понимая, что оно вовсе не всегда выражает истину в последней инстанции: народ, как и отдельный человек, может быть ослеплен гордыней или заблуждением, может ошибаться, и задача писателя - не потакать ему в этих ошибках, но стремиться просветлить.
Солженицын вообще никогда не идет по уже проложенному кем-то пути, прокладывая исключительно собственный путь. Ни в жизни, ни в литературе он никому не льстил - ни политическим деятелям, которые стремились, как Хрущев, сделать его советским писателем, бичующим пороки культа личности, но не посягающим на коренные принципы советской системы, ни политикам прошлого, ставшим героями его эпоса, которые, утверждая спасительные пути, так и не смогли их обеспечить. Он был даже жесток, отворачиваясь и разрывая по политическим и литературным соображениям с людьми, которые переправляли его рукописи за границу часто с серьезным риском для себя или же стремились помочь ему опубликовать свои вещи здесь. Один из самых болезненных разрывов, и личных, и общественных, и литературных, - с В.Я. Лакшиным, сотрудником Твардовского по «Новому миру», критиком, предложившим одно из первых прочтений писателя и сделавшим много возможного и невозможного для публикации его произведений. Лакшин не принял портрета А.Т. Твардовского в очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом» и не был, разумеется, согласен с трактовкой собственной роли в литературной ситуации 60-х годов, как она складывалась вокруг «Нового мира». Другой разрыв, столь же болезненный и жестокий, - с Ольгой Карлайл. В 1978 г. она выпустила в США книгу «Солженицын и тайный круг», в которой рассказывала о той роли, что принадлежала ей в организации тайных путей переброски на Запад рукописей «Архипелага ГУЛАГ» и «В круге первом» и о жестокости, с которой Солженицын отозвался о ней в «Теленке...». Все это многим и на родине, и на Западе дало основания для обвинений Солженицына в эгоцентризме и элементарной человеческой неблагодарности. Но дело здесь глубже - отнюдь не в личных особенностях характера. Это твердая жизненная позиция писателя, лишенного способности к компромиссу, единственно и дающая ему возможность выполнить свою жизненную предназначенность.
(Литературное расследование)
В расследовании принимают участие:
Ведущий - библиотекарь
Независимый историк
Свидетели - литературные герои
Ведущий: 1956 год. 31декабря в «Правде» напечатан рассказ «Судьба человека» . С этого рассказа начался новый этап развития нашей военной литературы. И тут сыграли роль шолоховское бесстрашие и шолоховское умение через судьбу одного человека показать эпоху во всей сложности и во всем драматизме.
Основной сюжетный мотив рассказа - судьба простого русского солдата Андрея Соколова. Его жизнь ровесника века соотнесена с биографией страны, с важнейшими событиями истории. В мае 1942 года он попал в плен. За два года он объехал «половину Германии», бежал из плена. Во время войны потерял всю семью. После войны, встретив случайно мальчика-сироту, Андрей усыновил его.
После «Судьбы человека» стали невозможны недомолвки о трагических событиях войны, о горечи плена, пережитых многими советскими людьми. В плену оказывались и очень преданные Родине солдаты и офицеры, попадавшие на фронте в безвыходное положение, но к ним часто относились как к предателям. Рассказ Шолохова как бы сдёрнул вуаль со многого, что было скрыто боязнью оскорбить героический портрет Победы.
Давайте вернемся в годы Великой Отечественной войны, в самый трагический её период - 1942-1943 годы. Слово независимому историку.
Историк:
16 августа 1941 года
Сталин подписал приказ № 270
, в котором говорилось:
«Командиров и политработников, во время боя сдающихся врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину»
Приказ требовал уничтожать пленных всеми «средствами как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи»
Только в 1941 году по немецким данным, в плен попали 3 млн. 800 тыс. советских военнослужащих. К весне 1942 года в живых из них осталось 1 млн. 100 тыс. человек.
Всего в годы войны из примерно 6,3 млн. военнопленных погибло около 4-х млн.
Ведущий: Закончилась Великая Отечественная война, отгремели победные залпы, началась мирная жизнь советского народа. Как сложилась в дальнейшем судьба таких людей, как Андрей Соколов, прошедших плен или переживших оккупацию? Как наше общество относилось к таким людям?
Свидетельствует в своей книге «Моё взрослое детство» .
(Свидетельствует девушка от лица Л.М. Гурченко).


Свидетель: В Харьков стали возвращаться из эвакуации и не только харьковчане, но и жители других городов. Всех надо было обеспечивать жилплощадью. На оставшихся в оккупации смотрели косо. Их в первую очередь переселяли из квартир и комнат на этажах в подвалы. Мы ждали своей очереди.
В классе вновь прибывшие объявляли бойкот оставшимся при немцах. Я ничего не понимала: если я столько пережила, столько видела страшного, меня наоборот, должны понять, пожалеть… Я стала бояться людей, которые смотрели на меня с презрением и пускали в след: «овчарочка». Ах, если бы они знали, что такое настоящая немецкая овчарка. Если бы они видели, как овчарка ведет людей прямо в душегубку… эти люди так бы не сказали… Когда на экране пошли фильмы и хроника, в которых были показаны ужасы казни и расправы немцев на оккупированных территориях, постепенно эта «болезнь» стала уходить в прошлое.
Ведущий: … 10 лет минуло после победного 45-го года, Шолохова война не отпускала. Он работал над романом «Они сражались за Родину» и рассказом «Судьба человека».
По мнению литературоведа В. Осипова, этот рассказ не мог бы быть создан в любое другое время. Он стал писаться тогда, когда его автор окончательно прозрел и понял: Сталин не икона для народа, сталинизм - это сталинщина. Едва вышел рассказ - так похвалы чуть не от каждой газеты или журнала. Ремарк и Хемингуэй откликнулись - прислали телеграммы. И поныне ни одна антология советской новеллистики без него не обходится.
Ведущий: Вы прочитали этот рассказ. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, что вас тронуло в нем, что оставило равнодушным?
(Ответы ребят)
Ведущий: Существует два полярных мнения о рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека»: Александра Солженицына и писателя из Алма-Аты Вениамина Ларина. Давайте их послушаем.
(Свидетельствует юноша от лица А.И.Солженицынa)

Солженицын А. И.: «Судьба человека» - очень слабый рассказ, где бледны и неубедительны военные страницы.
Во-первых: избран самый не криминальный случай плена - без памяти, чтобы сделать это бесспорным, обойти всю остроту проблемы. (А если сдался в памяти, как было с большинством - что и как тогда?)
Во-вторых: главная проблема представлена не в том, что родина нас покинула, отреклась, прокляла (об этом у Шолохова ни слова), а именно это создает безвыходность, а в том, что там среди нас объявлялись предатели…
В-третьих: сочинен фантастически-детективный побег из плена с кучей натяжек чтобы не возникла обязательная, неуклонная процедура пришедшего из плена: «СМЕРШ-проверочно-фильтрационный лагерь».
Ведущий: СМЕРШ - что это за организация? Слово независимому историку.
Историк:
Из энциклопедии «Великая Отечественная война»:
«Постановлением Госкомобороны от 14 апреля 1943 года образовано Главное управление контрразведки «СМЕРШ» - «Смерть шпионам». Разведслужбы фашисткой Германии пытались развернуть против СССР широкую подрывную деятельность. Они создали на советско-германском фронте свыше 130 разведывательно-диверсионных органов и около 60 спецразведывательно-диверсионных школ. В действующую Советскую Армию забрасывались диверсионные отряды и террористы. Органы «СМЕРШ» вели активный розыск вражеских агентов в районах боевых действий, в местах нахождения военных объектов, обеспечивали своевременно получение данных о засылке вражеских шпионов и диверсантов. После войны, в мае 1946 года органы «СМЕРШ» преобразованы в особые отделы и подчинены МГБ СССР».
Ведущий: А теперь мнение Вениамина Ларина.
(Юноша от лица В. Ларина)
Ларин В .: Рассказ Шолохова возносят только за одну тему солдатского подвига. Но литературные критики такой трактовкой убивают - безопасно для себя - истинный смысл рассказа. Правда Шолохова шире и не заканчивается победой в схватке с фашисткой машиной плена. Делают вид, что у большого рассказа нет продолжения: как большое государство, большая власть относится к маленькому человеку, пускай и великому духом. Шолохов выдирает из сердца откровение: смотрите, читатели, как власть относится к человеку - лозунги, лозунги, а какая, к чёрту, забота о человеке! Плен искромсал человека. Но он там, в плену, даже искромсанный, остался верен своей стране, а вернулся? Никому не нужен! Сирота! А с мальцом две сироты…Песчинки… И ведь не только под военным ураганом. Но Шолохов велик - не соблазнился дешевым поворотом темы: не стал вкладывать своему герою ни жалостливых мольб о сочувствии, ни проклятий в адрес Сталина. Разглядел в своем Соколове извечную суть русского человека - терпеливость и стойкость.
Ведущий: Давайте обратимся к творчеству писателей, которые пишут о плене, и с их помощью воссоздадим обстановку тяжелых военных лет.
(Свидетельствует герой рассказа «Дорога в отчий дом» Константина Воробьева)

Рассказ партизана: В плен я попал под Волоколамском в сорок первом, и хотя прошло с тех пор шестнадцать лет, и остался я жив, и семью развел, и все такое прочее, но рассказать о том, как я прозимовал в плену - не умею: нету у меня русских слов для этого. Нету!
Бежали мы из лагеря вдвоем, а со временем собрался из нас, бывших пленных целый отряд. Климов… восстановил нам же всем воинские звания. Понимаете, был ты, скажем до плена сержантом, - им и остался. Был солдатом - будь им и до конца!
Бывало …уничтожишь вражеский грузовик с бомбами, сразу вроде бы и выпрямится душа в тебе, и возликует там что-то - воюю же теперь не за одного себя, как в лагере! Победим же его сволоча, обязательно докончим, и вот так дойдешь до этого места до победы то есть, так и стоп!
И то, после войны сразу же потребуется анкета. А там будет один маленький вопрос - находился ли в плену? По месту этот вопрос всего лишь для ответа одним словом «да» или «нет».
И тому, кто вручит тебе эту анкету совсем не важно, что ты делал в войну, а важно, где ты был! Ах, в плену? Значит… Ну, что это значит - вы сами знаете. По жизни и по правде такое положение должно было быть совсем наоборот, а вот поди ж ты!...
Скажу коротко: ровно через три месяца мы присоединились к большому партизанскому отряду.
О том, как мы действовали до самого прихода своей армии, я расскажу другой раз. Да это, думаю, и не важно. Важно то, что мы не только живыми оказались, но и в человеческий строй вступили, что мы опять превратились в бойцов, а русскими людьми мы остались и в лагерях.
Ведущий: Давайте вслушаемся в исповеди партизана и Андрея Соколова.
Партизан: Был ты, скажем, до плена сержантом - им и оставайся. Был солдатом - будь им до конца.
Андрей Соколов : На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала.
И для одного, и для другого война - тяжелая работа, которую нужно сделать добросовестно, отдать всего себя.
Ведущий: Свидетельствует майор Пугачёв из рассказа В. Шаламова «Последний бой майора Пугачёва»


Чтец: Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую, однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча - допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор - двадцать пять лет тюрьмы. Приезжали власовские эмиссары, но он не верил им до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен. Власть его боялась.
Ведущий:
Выслушав свидетельство майора Пугачева, невольно отмечаешь: его рассказ прямое - подтверждение правоты Ларина:
«Он там, в плену, даже искромсанный, остался верен своей стране, а вернулся?.. Никому не нужен! Сирота!»
Свидетельствует сержант Алексей Романов, в прошлом школьный учитель истории из Сталинграда, реальный герой рассказа Сергея Смирнова «Путь на Родину» из книги «Герои великой войны» .
(Свидетельствует читатель от лица А. Романова)


Алексей Романов: Весной 42-го я попал в интернациональный лагерь Феддель, на окраине Гамбурга. Там, в Гамбургском порту, мы пленные, работали на разгрузке кораблей. Мысль о побеге меня не оставляла ни на минуту. С моим другом Мельниковым решили бежать, продумали план побега, прямо скажем, план фантастический. Бежать из лагеря, проникнуть в порт, спрятаться на шведском пароходе и доплыть с ним в один из портов Швеции. Оттуда можно с британским судном добраться до Англии, а потом с каким-нибудь караваном союзных судов прийти в Мурманск или Архангельск. А затем опять взять в руки автомат или пулемет и уже на фронте расплатиться с гитлеровцами за все, что пришлось пережить в плену за эти годы.
25 декабря 1943 года мы совершили побег. Нам просто сопутствовала удача. Чудом удалось перебраться на другую сторону Эльбы, в порт, где стояло шведское судно. Забрались в трюм с коксом, и вот в этом железном гробу без воды, без пищи мы плыли на Родину, а ради этого мы были готовы на все даже на смерть. Очнулся через несколько дней в шведской тюремной больнице: оказалось, что нас обнаружили рабочие, разгружающие кокс. Вызвали врача. Мельников был уже мертв, а я выжил. Я стал добиваться отправки на Родину, попал к Александре Михайловне Коллонтай. Она и помогла в 1944 г. вернуться домой.
Ведущий: Прежде чем мы продолжим наш разговор, слово историку. Что говорят нам цифры о дальнейшей судьбе бывших военнопленных
Историк: Из книги «Великая Отечественная война. Цифры и факты» . Вернувшиеся из плена после войны (1 млн. 836 тыс. человек) были направлены: более 1 млн. человек - для дальнейшего прохождения службы в частях Красной Армии, 600 тыс. - для работы в промышленности в составе рабочих батальонов, и 339 тыс. (в том числе некоторая часть гражданских лиц), как скомпрометировавшие себя в плену - в лагеря НКВД.
Ведущий: Война - это материк жестокости. Оградить сердца от сумасшествия ненависти, ожесточения, страха в плену, в блокаде порой не возможно. Человек буквально подводится к вратам страшного суда. Порой вынести, прожить жизнь на войне, в окружении труднее, чем вынести смерть.
Что же общего в судьбах наших свидетелей, что роднит их души? Справедливы ли упреки адрес Шолохова?
(Выслушиваем ответы ребят)
Стойкость, цепкость в борьбе за жизнь, дух отваги, товарищества - эти качества идут по традиции еще от суворовского солдата, их воспел Лермонтов в «Бородине», Гоголь в повести «Тарас Бульба», ими восхищался Лев Толстой. Все это есть Андрея Соколова, у партизана из рассказа Воробьева, у майора Пугачева, у Алексея Романова.

Остаться на войне человеком - это не просто выжить и «убить его» (т. е. врага). Это - сохранить свое сердце для добра. Соколов ушел на фронт человеком, им же остался и после войны.
Чтец: Рассказ на тему трагических судеб пленных - первый в советской литературе. Писался в 1955-м! Так почему Шолохов лишен литературного и нравственного права начинать тему так, а не иначе?
Солженицын попрекает Шолохова, что писал не о тех, кто «сдался» в плен, а о тех, что «попали» или «взяты». Но не учел, что Шолохов иначе не мог:
Воспитан на казачьих традициях. Не случайно отстаивал перед Сталиным честь Корнилова примером бегства из плена. И в самом деле, человек с давних батальных времен прежде всего сочувствие отдает не тем, кто «сдался», а тем, кто «попадал-брался» в плен по неодолимой безысходности: ранение, окружение, безоружие, по измене командира или предательства правителей;
Взял на себя политическую смелость отдать свой авторитет, чтобы защитить от политической заклейменности тех, кто был честен в исполнении воинского долга и мужской чести.
Может, приукрашена советская действительность? Последние строки о горемыках Соколове и Ванюшке начинались у Шолохова так: «С тяжелой грустью смотрел я им вслед…».
Может, приукрашено поведение Соколова в плену? Нет таких упреков.

Ведущий: Сейчас легко анализировать слова и поступки автора. А может стоит задуматься: легко ли было ему прожить его собственную жизнь? Легко ли было художнику, который не смог, не успел сказать все, что хотел, и, конечно, мог сказать. Субъективно мог (хватало и таланта, и мужества, и материала!), но объективно не мог (время, эпоха, были таковы, что не печаталось, а потому и не писалось…) Как часто, как много во все времена теряла наша Россия: не созданные скульптуры, не написанные картины и книги, как знать, может быть, самые талантливые…Большие русские художники рождались не вовремя - то ли рано, то ли поздно - неугодными правителям.
В «Разговоре с отцом»
М.М. Шолохов передает слова Михаила Александровича в ответ на критику читателя, бывшего военнопленного, пережившего сталинские лагеря:
«Ты что же полагаешь, я не знаю, что бывало в плену или после него? Что мне, неизвестны крайние степени человеческой низости, жестокости, подлости? Или считаешь, что, зная это, я сам подличаю?… Сколько умения надо на то, чтобы говорить людям правду…»

Мог Михаил Александрович в своем рассказе о многом умолчать? - Мог! Время научило его молчать и недоговаривать: умный читатель все поймет, обо всем догадается.
Немало лет прошло с тех пор, как по воле писателя все новые и новые читатели встречаются с героями этого рассказа. Думают. Тоскуют. Плачут. И удивляются - тому, как щедро человеческое сердце, как неиссякаема в нем доброта, неистребима потребность уберечь и защитить, даже тогда, когда, казалось бы, о том и думать нечего.
Литература:
1. Бирюков Ф. Г. Шолохов: в помощь преподавателям, старшеклассникам. и абитуриентам / Ф. Г. Бирюков. - 2-е изд. - М. : Изд-во Московского ун-та, 2000. - 111 с. - (Перечитывая классику).
2. Жуков, Иван Иванович. Рука судьбы: Правда и ложь о М. Шолохове и А. Фадееве. - М. : Газ.-журн. об-ние "Воскресенье", 1994. - 254, с., л. ил. : ил.
3. Осипов, Валентин Осипович. Тайная жизнь Михаила Шолохова... : документальная хроника без легенд / В.О. Осипов. - М. : ЛИБЕРЕЯ, 1995. - 415 с., л. порт p.
4. Петелин, Виктор Васильевич. Жизнь Шолохова: Трагедия рус. гения / Виктор Петелин. - М. : Центрполиграф, 2002. - 893, с., л. ил. : портр. ; 21 см. - (Бессмертные имена).
5. Русская литература XX века: пособие для старшеклассников, абитуриентов и студентов / Л. А. Иезуитова, С. А. Иезуитов [и др. ] ; ред. Т. Н. Нагайцева. - СПб. : Нева, 1998. - 416 с.
6. Чалмаев В. А. На войне остаться человеком: Фронтовые страницы русской прозы 60-90-х годов: в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В. А. Чалмаев. - 2-е изд. - М. : Изд-во Московского ун-та, 2000. - 123 с. - (Перечитывая классику).
7. Шолохова С. М. Казненный замысел: К истории ненаписанного рассказа /С. М. Шолоховва // Крестьянин.- 1995. - № 8.- февр.
"Судьба человека": как это было