Дверь в светлицу заскрипела и
Сказка о царе Салтане
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
Практическая работа №6
–«Кабы я была царица, –Говорит ее сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
– «Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, –
Говорит он, – будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы.
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».
В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха –
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.
В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далеко
Бьется долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребенком,
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».
Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».
Едет с грамотой гонец
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой
С сватьей бабой Бабарихой
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую –
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю –
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян –
Так велел-де царь Салтан.
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
День прошел – царица вопит…
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна?
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли –
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир»
«Как бы здесь на двор окошкоНам проделать?» – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле;
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
«Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря»
Тонку тросточку сломил,Стрелкой легкой завострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины.
К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон…
Видно, на море не тихо:
Смотрит – видит дело лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
«Кабы я была царица, –
Говорит ее сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна» полотна»
Та бедняжка так и плещет,Воду вкруг мутит и хлещет…
Тот уж когти распустил,
Клев кровавый навострил…
Но как раз стрела запела –
В шею коршуна задела –
Коршун в море кровь пролил.
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит –
И царевичу потом
Молвит русским языком:
«Ты царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе – все не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдешь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».
Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья»
Он скорей царицу будит;Та как ахнет!… «То ли будет? –
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Говорит он, – вижу я:Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку»
Хор церковный бога хвалит;В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают,
И царевича венчают
Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарекся: князь Гвидон.
Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой –
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Чорнобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –
Говорит она ему.
Дубровский
Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русской барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения, или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Не смотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы, в положеные часы, сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них за муж и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; не смотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседам, надеясь на его сильное покровительство.Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах, и в проказах, ежедневно при том изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, не смотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучил и их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместие, они свидились и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишка своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. – Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».
Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выдти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил.
Раз в начале осени, Кирила Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пяти сот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением, и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осмотривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми канурами, то расспрашивая о здоровии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые – то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностию восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борз ых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат», спросил его Кирила Петрович, «или псарня моя тебе не нравится?» «Нет», отвечал он сурово, «псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье», сказал он, «благодаря бога и барина, не жалуемся – а что правда – то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю канурку. – Ему было б и сытнее и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости во след за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел, и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят – он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.
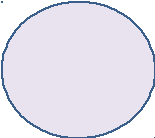 Возвратясь
с гостями со псарного двора, Кирила
Петрович сел ужинать и тогда только не
видя Дубровского хватился о нем. Люди
отвечали, что Андрей Гаврилович уехал
домой. Троекуров велел тотчас его догнать
и воротить непременно. От роду не выезжал
он на охоту без Дубровского, опытного
и тонкого ценителя псовых достоинств
и безошибочного решителя всевозможных
охотничьих споров. Слуга, поскакавший
за ним, воротился, как еще сидели за
столом, и доложил своему господину, что
дескать Андрей Гаврилович не послушался
и не хотел воротиться. Кирила Петрович,
по обыкновению своему разгоряченный
наливками, осердился и вторично послал
того же слугу сказать Андрею Гавриловичу,
что если он тотчас же не приедет ночевать
в Покровское, то он, Троекуров, с ним
навеки рассорится. Слуга снова поскакал,
Кирила Петрович, встал изо стола, отпустил
гостей и отправился спать.
На другой
день первый вопрос его был: здесь ли
Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему
подали письмо, сложенное треугольником;
Кирила Петрович приказал своему писарю
читать его вслух – и услышал следующее:
Возвратясь
с гостями со псарного двора, Кирила
Петрович сел ужинать и тогда только не
видя Дубровского хватился о нем. Люди
отвечали, что Андрей Гаврилович уехал
домой. Троекуров велел тотчас его догнать
и воротить непременно. От роду не выезжал
он на охоту без Дубровского, опытного
и тонкого ценителя псовых достоинств
и безошибочного решителя всевозможных
охотничьих споров. Слуга, поскакавший
за ним, воротился, как еще сидели за
столом, и доложил своему господину, что
дескать Андрей Гаврилович не послушался
и не хотел воротиться. Кирила Петрович,
по обыкновению своему разгоряченный
наливками, осердился и вторично послал
того же слугу сказать Андрею Гавриловичу,
что если он тотчас же не приедет ночевать
в Покровское, то он, Троекуров, с ним
навеки рассорится. Слуга снова поскакал,
Кирила Петрович, встал изо стола, отпустил
гостей и отправился спать.
На другой
день первый вопрос его был: здесь ли
Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему
подали письмо, сложенное треугольником;
Кирила Петрович приказал своему писарю
читать его вслух – и услышал следующее:
Государь мой примилостивый,
Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю – потому что я не шут, а старинный дворянин. – За сим остаюсь покорным ко услугам

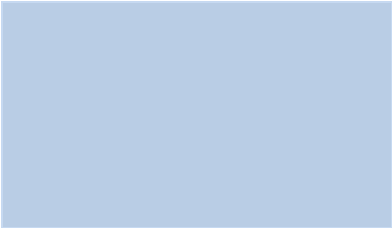
![]()
ПРОСТРЕЛ - 1. Действие по знач. глаг.: прострелить. 2. Простреленное место. 3. разг. Болезнь, сопровождающаяся ломотой и колотьем в разных частях тела, обычно в пояснице.
..........................
ПРОСТРЕЛ - 1. Лекарственное растение семейства лютиковых с крупными лиловыми цветками.
..........................
ЮНОСТЬ - 1. Возраст между отрочеством и зрелостью; юный возраст. // перен. Ранняя стадия чего-л. 2. перен. Юное поколение; юношество.
..........................
КИРПИЧ - 1. Прямоугольный брусок из обожженной глины, употребляемый в качестве строительного материала. // разг. Прямоугольный брусок из какого-л. материала, используемого в качестве строительного. 2. То, что имеет форму такого бруска. // перен. разг. Очень толстая книга, рукопись. 3. перен. разг. Дорожный знак в виде горизонтально расположенного прямоугольника, запрещающий въезд, проезд транспорта. 4. перен. разг. Важный, существенный элемент чего-л.
..........................
ПИСЬМО ср. 1. Процесс действия по знач. глаг.: писать. 2. Бумага с написанным на ней текстом, посылаемая кому-л. с целью сообщения о чем-л., изложения своих мыслей, выражения чувств. // Сам такой текст. // Почтовое отправление, содержащее такой текст. 3. Официальный документ. 4. Умение, способность писать. 5. Система графических знаков, принятая для передачи, запечатления писания; письменность. // Система, форма, стиль таких знаков. // разг. Внешний вид написанного; почерк. 6. Приемы создания литературно-художественных произведений. 7. Приемы, манера написания произведений живописи.
..........................
ФИЛОЛОГ - 1. Специалист в области филологии. 2. разг. Студент филологического факультета высшего учебного заведения.
..........................
ВСТАВКА - 1. Действие по знач. глаг.: вставлять, вставить, вставляться, вставиться. 2. Предмет, вставляемый или вставленный в специально отведенное для него место (обычно закрепляемый чем-л.). 3. Дополнение к чему-л. основному. // Дополнение, внесенное в рукопись при правке текста.
..........................
РАБСТВО ср. 1. Общественный строй, основанный на владении рабами. 2. Состояние, положение раба. 3. перен. Эксплуатация, угнетение одних людей другими. 4. перен. Полное подчинение чьему-л. влиянию или какому-л. увлечению.
..........................
АПОСТОЛ - 1. Каждый из двенадцати учеников Христа, проповедовавших его учение. 2. перен. Последователь, проповедник какого-л. учения, какой-л. идеи.
..........................
АПОСТОЛ - 1. Христианская богослужебная книга, содержащая часть Нового Завета (Деяния и Послания апостолов, Апокалипсис).
..........................
ВЫРЕЗ - 1. Действие по знач. глаг.: вырезать. 2. Место, где что-л. вырезано. // Выемка на одежде, в обуви.
..........................
АВОСЬКА - разг. Сетчатая сумка для продуктов или небольших вещей, сплетенная из шнурков, нитей и т.п.
..........................
НОРМАЛЬ - Перпендикуляр к касательной (прямой или плоскости), проходящий через точку касания (в математике).
..........................
НОРМАЛЬ - устар. То же, что: стандарт.
..........................
ЛЕШИЙ - 1. Сверхъестественное существо, живущее в лесу (в русской народной мифологии). 2. Употр. как бранное слово.
..........................
ОТКОС - 1. Покатый спуск, скат, наклонная поверхность. // Боковая наклонная поверхность дорожной насыпи. 2. Скошенная, расположенная под углом к другим плоскостям часть какого-л. строения. 3. Подпорка в виде наклонно поставленного столба, бревна.
..........................
ТУРКИ мн. 1. Народ, составляющий основное население Турции. 2. Представители этого народа.
..........................
ЛЕЧЕБНИЦА - Лечебное учреждение специального назначения.
..........................
КОФЕВАРКА - 1. Аппарат для приготовления горячего напитка из молотых зерен кофе. 2. Сосуд для варки кофе.
..........................
БРУСЧАТКА - 1. Бруски из камня определенной формы и размеров для мощения улиц. 2. разг. Мостовая, вымощенная такими брусками.
..........................
ГОСУДАРЬ - 1. Глава монархического государства; царь, император. // устар. Господин, владелец, хозяин. 2. устар. Употр. как почтительное обращение к своему господину, старшему в семье, должностному лицу и т.п.
..........................
СОБЛАЗН - 1. Искушение. // То, что влечет к себе, соблазняет, прельщает. 2. Греховное искушение; грех.
..........................
ДОСМОТР - 1. Таможенная проверка, осмотр личных вещей, товаров и т.п. 2. устар. Надзор, присмотр.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
- 1 -
Уже в двух первых частях предлагаемой статьи есть немалые сведения по пушкинской «Сказке о царе Салтане…». Есть сведения по только что названной Сказки и в некоторых моих современных статьях. Но они не собраны, мною, в единое целое. Поэтому сделаю попытку проанализировать пушкинскую «Сказку» - по самому её тексту. Предлагаю и вам участие в моём анализе через сам текст пушкинской «Сказки о царе Салтане…». Текст пушкинской «Сказки о царе Салтане» выделен у меня, в предлагаемой статье выше, в Приложении № 1.
Остается только выделить, что при анализе пушкинской «Сказки о царе Салтане» я попытаюсь привлечь некоторые данные, найденные текстологом М.К. Азадовским через его большую статью «Источники сказок Пушкина». Только что предложенную статью вы можете посмотреть по следующей ссылке: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/vr1/vr12134-.htm. И все выводы М.К. Азадовского я, особо отмечу, не подвергаю сомнению. Они, наверное, верны для его времени.
Только жаль, что названный текстолог не даёт читателю - полный материал, заключенный в «рабочих» тетрадях поэта по выделяемой, здесь, Сказке. Чтобы только что названное было четко понятно читателями, текстолог Азадовского не даёт в своей статье весь материал по типу, к примеру, текстолога Л. Модзалевского, исследовавшего письма Пушкина (он приводит текст письма, дальше же идёт его исследование письма - с многих направлений).
Мой же анализ пушкинской «Сказки о царе Салтане» будет производиться совершенно в другом направлении, да и совершенно в другом пространстве и… поле. В основном связанным, как вы уже знаете по моим статьям и книгам, с «тайным Пушкиным», с его криптограммами, и прочее. Итак, предлагаемый анализ перед вами.
- 2 -
Пожалуй, начну его не с названия пушкинской «Сказки о царе Салтане», - которое по своему объёму и длине, в общем-то, очень необычное для поэта, любящего краткость! - а с не так уж и сложного вопроса к самим читателям. А вопрос таков: Кто их российских императоров (облегчаю задание!) любил «поздно вечерком», - или даже ночью! – подслушивать разговоры своих подданных? И не только в окресностях своего дворца, но и, даже, в Петербурге. Многие читатели без затруднений ответят на мой вопрос, надеюсь, так: Любил подслушивать разговоры своих подданных император Павел первый. И они – правы!
Но в начале своего анализа всё же дам, чтобы соблюсти логику СВОЕГО повествования, как пушкинист М.К. Азадовский в V-ой части своей статьи проявляет себя именно как текстолог. Вот что он пишет в только что обозначенной части: «У Пушкина мы имеем три записи данного сюжета. Одна относится к 1824 году и находится среди записей, известных под условным названием „Сказок Арины Родионовны“, другая в кишиневской тетради 1822 г. (Лен. б-ка, № 2366) и третья в тетради 1828 г. (Лен. б-ка, № 2391), как прозаическое изложение стихотворного начала».
Всё здесь верно! Но пушкинист и текстолог М.К. Азадовский чуть ниже подтверждает, - пока ещё, разумеется, в черновом варианте! – что именно император Павел I любил подслушивать разговоры «поздно вечерком», - или даже ночью! – своих подданных! Вот, в качестве факта, подтверждение только что изложенному утверждению, данное нам, собственно, самим Пушкиным: первую строфу пушкинской сказки и прозаическую запись, - ещё, как видите, в черновом варианте 1828 года! - М.К. Азадовский доносит до нас, в той же V-ой части своей статьи, в таком виде:
«Запись 1828 г. имеет такой вид:
[Три девицы под окном]
Пряли поздно вечерком
Если б я была царица
Говорит одна девица
То на весь народ одна
Наткала б я полотна -
Если б я была царица
Говорит ее сес<трица>
То сама на весь бы мир
Заготовила я пир -
Если б я была царица1
Третья молвила девица
Я для батюшки царя2
Родила б богатыря.
После этого стихотворного текста, - как известно по статье М.К. Азадовского: в 14-ть стихотворных строк! - следует прозаическая запись: „Только успели они выговорить сии слова, как дверь [светлицы] отворилась - и царь вошел без доклада - царь имел привычку гулять поздно по городу и подслушивать речи своих подданных. Он с приятной улыбкою подошел3 к меньшей сестре, взял ее за руку и сказал: будь же царицею и роди мне царевича;4 потом обратясь к старшей и средней, сказал он: ты будь у меня при дворе5 ткачихой, а ты кухаркою. С этим словом, не дав им образумиться, царь два6 раза свистнул; двор наполнился воинами и царедворцами и, серебряная карета подъехала к самому крыльцу царь сел в неё с новою царицей, а своячен<иц> велел везти во дворец - их посадили в телеги и все поскакали“.
Как видите уже и сами, по стихотворному тексту и прозаической записи, сам А.С. Пушкин предлагает ВОПРОС исследователям, нашедшим черновые записи в его тетрадях. А вопрос, как вы только что узнали выше, не так уж и сложен: за стихотворным текстом и прозаической записью скрывается у поэта, как вы только что узнали выше, император Павел первый. Или любил подслушивать разговоры своих подданных - император Павел первый. Он так и вошел в русскую Историю, особо отмечу это обстоятельство, именно как российский император, любящий подслушивать разговоры своих подданных не только «поздно вечерком», но и, даже, ночью.
Но и это на самое главное в только что преподнесённом вам материале. Самым главным, - и самым важным! - является в нём тот факт, что разговор в «Сказке о царе Салтане» уже пойдёт, обратите внимание и на это обстоятельство, не только о царствовании Павла I и заговоре против него. О царствовании и заговоре, - в котором примут самое активное участие: и Англия; и, всегда противоборствующая ей, в то время, Франция; и узурпатор Екатерина вторая, всегда защищающая, при Фридрихе втором, уже агрессивную Пруссию! - но и о царствовании его сына. Другими словами, разговор пойдет, в пушкинской «Сказке о царе Салтане», и о царствовании императора Александра I.
И это, тоже обратите внимание на выделяемое здесь обстоятельство, при самом оптимистическом, - и даже радужном! - окончании пушкинской «Сказки о царе Салтане». Вот в качестве факта последние строки пушкинской Сказки: «Царь для радости такой Отпустил всех трех домой» (смотрите последнюю, - или 27-ую по моему СЧЕТУ! - строфу пушкинской Сказки - самостоятельно).
Только жаль, что пушкинист-текстолог М.К. Азадовский выбрав тему по источниковедению, - которую, особо отмечу это обстоятельство, он хорошо не только раскрыл, но и аргументировано доказал нам её! - совершенно не коснулся, при этом, темы «Тайного наследия А.С. Пушкина». Но что тут поделать, если тема, у названного текстолога, узконаправленная! Поэтому, разобравшись с только что изложенным обстоятельством, попытаюсь уже самостоятельно повести разговор о тайном наследии поэта. Но, прежде чем начать его, выделю вам, что сказка – сказкою, но ВТОРАЯ сестрица в черновом варианте стихотворного текста, 1828 года, слишком уж широко, на мой взгляд, размахнулась:
«Если б я была царица
Говорит ее сес<трица>
То сама на весь бы мир
Заготовила я пир - ».
Однако, ирония – иронией, а вопрос-то, на мой взгляд, достаточно серьезный. И главный смысл его, таков: с только что выделенного четверостишья 1828 года, - с его невероятным, даже для сказки, преувеличением! – Пушкин совершает, в опубликованной в 1832 году записи первой строфы, следующее. Он в опубликованной записи ПЕРВОЙ строфы практически даёт ТАКОЕ ЖЕ преувеличение, - заключенное в смысле высказывания девушки! - и ВТОРОЙ сестре. Чтобы вы отчетливо увидели это преувеличение, дам вам ВЫСКАЗЫВАНИЯ, - в опубликованной в 1832 году записи первой строфы! - ДВУХ ПЕРВЫХ сестер. Вот как всё это, - то есть только что раскрытые вам действия поэта по отношению к первым двум сестрам! - выглядит в опубликованной в 1832 году записи первой строфы (да и всей, всё забываю сказать об этом, «Сказки о царе Салтане»):
<<Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, -
Говорит одна девица, -
То на весь крещеный МИР
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица, -
Говорит ее сестрица, -
То на весь бы МИР одна
Наткала я полотна»>>.
Как видите уже и сами по первой, опубликованной в 1832 году строфе, Пушкин, поменяв первых двух сестер в названной строфе МЕСТАМИ, для уже ПЕРВОЙ, в опубликованной строфе, сестры – КОНКРЕТИЗИРУЕТ, через слово «крещеный, её безмерное преувеличение. Факт: «То на весь КРЕЩЕНЫЙ мир Приготовила б я пир». Но для ВТОРОЙ сестры, в опубликованной строфе, уже даёт - неограниченное, даже для Сказки, преувеличение. Факт: «То на весь бы мир одна Наткала я полотна».
Пояснение В.Б. – Ранее я в только что изложенном абзаце писал так: «Как видите уже и сами по первой опубликованной строфе, Пушкин, поменяв первых двух сестер в названной строфе МЕСТАМИ, для уже ПЕРВОЙ, в опубликованной строфе, сестры – несколько СУЖАЕТ, через слово «крещеный», её безмерное преувеличение. Факт: «То на весь КРЕЩЕНЫЙ мир Приготовила б я пир», что – неверно!
Неверно по нескольким причинам. Первое. Существуют вполне определенные законы создания хадожественной прозы, как существуют и вполне определенные законы ВОСПРИЯТИЯ читателем текста, в том числе, разумеется, и стихотворного текста.
Второе, Слово «сужает» не обязательное для только что приведенного выше примера, - ибо лучше КОНКРЕТИЗИРУЕТ или УТОЧНЯЕТ! - так как можно ввести, в строфу, не только сужение, но и… увеличение. Вот, в качестве примера, стихотворные строки: «То на весь ОГРОМНЫЙ мир Приготовила б я пир». Так что необходимо придерживаться – только пушкинского текста, ибо только он несёт в себе реализацию множества мыслей и замыслов поэта-историка.
Что всё сие означает у Пушкина, - облегчу задание! – историка! А он, - как вы, надеюсь, уже поняли по только что изложенному, выше, материалу! - в «Сказке о царе Салтане» выступает – именно как историк. Вот именно это надо понять, чтобы правильно ответить на только что поставленный, перед вами, вопрос.
- 3 –
А законы создания художественной прозы и стихотворного текста, как и восприятие, читателем, прозаического и стихотворного текста – действительно существуют. Пример: читатель именно через ТОЧНЫЕ слова автора художественного произведения составляет себе мнение, взгляд, оценку событий, происходящих в художественном произведении, совпадающими со многими мыслями и замыслами автора художественного произведения. Чтобы читателю стало всё понятно по только что изложенному мною, приведу небольшой ряд выдержек, по только что возникшей теме. А они таковы:
ХХХ
"Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат". А.С. Пушкин. Смотрите статью по ссылке: http://festival.1september.ru/articles/581310/ .
ХХХ
«Простота и ясность прозы органически связаны, по мнению Стендаля и Пушкина, с насыщенностью мыслью: «проза требует мыслей, мыслей и мыслей - без нее блестящие выражения ни к чему не служат» (XI, 18). Такое же требование словесного «аскетизма» выдвигает и Стендаль: «...я хочу заключить как можно больше мыслей в возможно меньшем количестве слов» (7, 196). Писатель, считает Стендаль, обязан искать «единственное» слово, наиболее верно выражающее мысль: «точное, единственное, необходимое, неизбежное слово» (11, 271). Таково же и требование Пушкина: «Точность и краткость - вот первые достоинства прозы» (Х1, 18). Смотрите статью по ссылке: .
ХХХ
135. Точность
Анатолий Шуклецов
Поэзия – не менее точная наука, чем геометрия.
Гюстав Флобер.
// …у Пушкина, как и у Вергилия, каждый стих, каждая буква в словах, стихах поставлены на своё место. Валерий Брюсов. //. Смотрите статью по ссылке: http://www.proza.ru/2010/11/29/151 .
Мой окончательный вывод по только что изложенному материалу таков. Раз А.С. Пушкин создал строки: «То на весь крещеный МИР Приготовила б я пир», то необходимо как можно ТОЧНЕЕ разобраться именно с «крещенным Миром», - или с сёстрами! - не забыв при этом, разумеется, и о пире («Приготовила б я пир»). Но конкретно разбираться, с только что изложенным выводом, я буду – несколько позднее.
Здесь же обратите внимание, что в «Сказке о царе Салтане», - стихотворный текст, которой, я выставил в Приложении № 1 - у поэта нет ни одного ПОЯСНЕНИЯ! Другими словами, в пушкинской «Сказке о царе Салтане» с наибольшей силой властвуют именно точность и краткость. И в конце Сказки стоит, у поэта, очень краткая датировка, а именно: «1831», что тоже необычно для поэта (смотрите А.С. Пушкин. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. Том первый, Москва. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. С. 703).
Не менее важны, здесь, и многие другие обстоятельства. Но о них я попытаюсь поговорить несколько позже. Здесь же специально отмечу, что в «Сказке о царе Салтане» тоже наблюдаются, - несмотря на то, что поэт прикоснулся к Сказкам впервые, создав из них небольшой цикл! – краптограммы поэта. А расшифровка криптограмм, как сами понимаете, дело сложное: чуть не так оценил то, или другое слово в пушкинском тексте и расшифровка пушкинской криптограммы… не получится.
Вот, в качестве примера-факта, хотя бы абсолютно неверный вывод пушкиниста-историка Н. Я. Эйдельмана, который попытался объяснить своим читателям в статье «Две тетради», как появились, у Германна, наследственный 47 тысяч.
Пояснение В.Б. – Н. Эйдельман хорошо показав, что стихотворный эпиграф к первой главе «Пиковой дамы» абсолютно совпадает, по ритму, с агитками декабристов-руководителей Рылеева и Александра Бестужева, ещё даже не осознаёт, в то время, что в пушкинском шедевре есть и другие тайны поэта-историка.
Здесь же замечу, что Пушкин уже даёт в приводимых, названным пушкинистом, суммах, схему: ставка – пароли – пароли-пе. Другими словами, даёт схему: ставка, удвоение ставки, учетверение ставки.
Вот сам пример:
Н.Эйдельман. Две тетради (Заметки пушкиниста)
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NYE/TWOLETT.HTM.
Пункт «1. А В НЕНАСТНЫЕ ДНИ...» (моя просьба: обязательно прочитайте названный пункт)
Отрывок:
«Мы догадываемся, что дело связано с картами, и узнаем, кстати, про Германа, что
“отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя маленький капитал. Герман оставил его в ломбарде, не касаясь и процентов, и жил одним жалованьем. Герман был твердо etc”.
На этом месте черновик обрывается, а сбоку набросаны и зачеркнуты подсчеты:
40 60
80 120
160 240
280 420
Это Пушкин примеряет, сколько капитала дать Герману, чтобы он трижды поставил “на тройку, семерку и туза”: в первый раз дано 40 тысяч рублей, потом 60; в конце концов Пушкин выбрал любопытную цифру - 47 тысяч: именно такой должна быть ставка аккуратнейшего Германна: не 40 или 45, а точно 47 тысяч, все, что имеет, до копеечки...
Но мы остановились на краю одного из немногих черновых фрагментов “Пиковой дамы”, на словах Герман был твердо...».
Именно поэтому в четвертом пункте статьи я попытаюсь изложить материал, основанный на несколько источниках. А они таковы.
- 4 –
Продолжение следует



