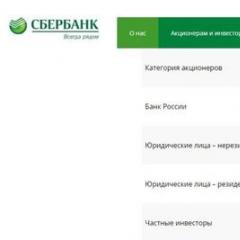Основные идеи “Рождения трагедии из духа музыки”. Фридрих Ницше
РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ ИЗ ДУХА МУЗЫКИ
’РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ ИЗ ДУХА
МУЗЫКИ
(‘Die Geburt der Tragnedie aus dem geiste der Musik’, 1872) - главная работа раннего, романтического этапа творчества Ницше, в период которого он находился под влиянием идей Шопенгауэра и Р.Вагнера. При написании работы Ницше использовал два доклада, прочитанные им в Базельском музее зимой 1870 - ‘Греческая музыкальная драма’ и ‘Сократ и трагедия’. Он долго размышлял над названием книги - ‘Греческая веселость’, ‘Опера и греческая трагедия’, ‘Происхождение и стиль трагедии’ и т.д. В апреле 1871 он решает включить в книгу разделы, в которых прослеживается связь греческой трагедии с драмой Вагнера, музыка которого стала для Ницше единственным адекватным выражением ‘мировой воли’ Шопенгауэра. Хотя через 15 лет Ницше будет полагать, что тот ‘вообще испортил себе грандиозную греческую проблему... примесью современнейших вещей’. Книга была издана зимой 1872 под заглавием ‘Р.Т.изД.М.’. В 1886 Ницше подготовит ее новое издание, несколько переформулировав при этом заголовок книги, назвав ее ‘Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм’. В ‘Р.Т.изД.М.’ Ницше демонстрирует высочайшего класса филологический и философский профессионализм. Так, в письме к Э.Роде в январе 1870 он напишет: ‘Наука, искусство и философия столь тесно переплелись во мне, что мне в любом случае придется однажды родить кентавра’. Однако филология является здесь скорее идеальным средством, с помощью которого автор идет от истолкования классических текстов к пониманию современной ему эпохи. Отвечая на вопрос о том, как возможна античная Греция, Ницше идет в противовес всей немецкой эстетической традиции, восходящей, в частности, к Шиллеру, оптимистически трактовавших древнегреческое искусство с его светлым, аполлоническим в своей основе началом. Он впервые говорит о другой Греции - трагической, опьяненной мифологией, дионисической, открывая в ней истоки будущих судеб Европы. Именно такая Греция, по Ницше, и есть настоящая, сильная, жестокая и здоровая во всей ее юности, ибо дионисическое начало более раннее, чем аполлоническое и именно оно принесло Элладе наибольшее благословение.
Лишь во времена распада и слабости, по Ницше, греки стали оптимистичнее и устремились к научному познанию и логизированию мира. Эти радость и ясность ассоциируются у Ницше с симптомами последующего упадка страны. Он пишет: ‘...назло всем предрассудкам демократического вкуса все эти оптимизм, господство разумности, утилитаризм, да и сама демократия - симптом никнущей силы и старости, а не здоровья’, символом которого и было как раз безвозвратно утерянное дионисийство. Эта противоположность аполлонического и дионисического начал и становится у Ницше главной внешней канвой ‘Р.Т.изД.М.’. Именно через нее он и пытается проследить всю последующую историю, в том числе и современной ему Германии. Призывая читателя обновить свои представления об эллинизме, он предлагает в то же время ‘сделать выбор между двумя Грециями’. Следует акцентировать, что есть в книге и то, что является ее другим, может быть даже главным, ракурсом, то, что сам философ назвал ‘проблемой рогатой’ - это проблема науки, разума. По вопросу Ницше, что означает вообще всякая наука, рассматриваемая как симптом жизни? Не есть ли она только страх и увертка от пессимизма, тонкая самооборона против истины; нечто вроде трусости, лживости, хитрости и т.п.? Так, в конце жизни в своей скандально известной работе ‘Ессе Homo’ он признает несомненную заслугу и новшество ‘Р.Т.изД.М.’ в постановке и решении именно этой проблемы - ‘толкования сократизма как орудия греческого разложения’ или проблемы разумности - этой опасной, подрывающей жизнь силы; в то же время Ницше назовет книгу ‘невозможной’ из-за столь неподходящей для юности задачи. Это не будет просто досадой зрелого автора на недостатки его юношеской работы: Ницше будет крайне недоволен вплетением канто-шопенгауэро-вагнеровской линии в текст книги, что, по его мнению, помешает ‘Р.Т.изД.М.’ стать первым по счету ‘Несвоевременным размышлением’. И тем не менее, впервые поставленные в этой дерзкой юношеской работе задачи не станут ему чужды и в глубоко зрелом возрасте, что позволяет назвать ‘Р.Т.изД.М.’ своеобразным ключом к расшифровке всего его творчества, этой ‘сплошной родовой муки’. Опять же в ‘Ессе Номо’ Ницше отметит, что ‘из этого сочинения говорит чудовищная надежда’, а само ‘Р.Т.изД.М.’ он сравнит с покушением на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора. Свое произведение Ницше начинает с идеи о единстве и постоянной борьбе в древнегреческой культуре двух начал - аполлонического и дионисического. Эти же два начала, две силы, как считает он, живут и борются в человеке-творце, художнике. Отсюда и два вида искусств - пластическое (архитектура, скульптура, танец, поэзия) и непластическое, в котором наиболее органично проявляет себя человеческая воля, которая, в свою очередь, полнее всего раскрывается именно в музыке. Эти два начала всегда действовали вместе и лишь для того, чтобы лучше уяснить суть каждого из них, Ницше как бы разъединяет и рассматривает их в отдельности, ассоциируя дионисическое начало по преимуществу с опьянением, а аполлоническое со сновидением. ‘В дионисическом начале, - пишет он, - все отдельное, субъективное исчезает до полного самозабвения. Под чарами Диониса - бога виноделия и плодородия, символизирующего пробуждение природных сил, получают ‘да’ все проявления жизни’. Ницше приводит исторические свидетельства многочисленных дионисических празднеств с их крайней половой разнузданностью, смесью сладострастия и жестокости, не осуждая и не считая их, однако, некоей ‘народной болезнью’, а, наоборот, называя мертвецами всех порицателей Диониса. В отличие от многих народов, греки, как считает Ницше, были защищены от этих вакханалий богом Аполлоном, символизировавшим спокойный артистизм, гармонию, прекрасные, обворожительные иллюзии и сновидения, отгораживавшие греков от всего безобразного в их бытии, и, подобно дионисическому мужеству, позволявшие более или менее сносно переносить жизнь. Аполлоническое начало противостоит дионисическому подобно тому, как искусственное противостоит естественному, жизни, осуждая все чрезмерное, непропорциональное. Ницше полагает, что после многочисленных этапов противоборства эти два начала слились в древнегреческой трагедии, ибо и то и другое оказались одинаково необходимы греку: этическое начало Аполлона стало как бы своеобразной защитой от ужасов бытия, как его дополнение и ограничение; в то же время силы Диониса олицетворяли преклонение перед неисчерпаемой во всей ее чрезмерностью мощью самой жизни. Именно в ‘Р.Т.изД.М.’ Ницше формулирует ставшую сакраментальной фразу о том, что ‘только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности’. Иначе говоря, будучи стихийной и иррациональной силой, жизнь изливается в инстинкте художника, и только тот мир, который он творит и с помощью которого он отгораживается от действительности, и есть единственно реальный. Так и в аттической (древнегреческой) трагедии само действие никогда не являлось только портретированием действительности, оно и было самой этой действительностью, своего рода утешением эллина. Вызываемое трагическим хором состояние разрушало привычные границы человеческого существования, погружая все личное в летаргический сон и избавляя тем самым людей от мыслей об ужасе и отвратительной нелепости их существования. Именно искусство, и только оно одно, по мысли Ницше, было способно сделать жизнь достойной существования. Основой такого рода философско-эстетических умонастроений философа выступает своеобразно интерпретированная им идея о единстве жизни и искусства, согласно которой сама жизнь рассматривается в качестве бессознательной творческой силы; что же касается искусства, то оно становится стихийным, ничем не детерминированным кроме воли и инстинкта художника, процессом жизнеизлияния как единственным подлинным проявлением жизни. Тем самым искусство способно преобразить жизнь, представив ее в более привлекательном свете. Подлинная жизнь - это и есть искусство, причем главным образом искусство трагическое. Отсюда и ранний эстетизм или романтизм молодого Ницше, как определенный способ его жизнепонимания, отсюда же и его выводы о высочайшей миссии художника, который в борьбе с неисчерпаемой и таинственной жизнью создает свои шедевры как единственно подлинные лики последней. Описывая древнегреческое искусство, и в частности аттическую трагедию, Ницше четко акцентирует наступление того момента, когда эта трагедия вдруг ‘покончила самоубийством’ в лице Еврипида, превратившего ее в комедию и поставившего под сомнение само существование дионисического начала. Дионис был изгнан с греческой сцены демонической силой, говорившей через Еврипида, однако последний был, по словам Ницше, лишь только маской; подлинным божеством, говорившим его устами, был Сократ, с появлением которого возникает новая дилемма: дионисического и сократического начал. Именно в этом пункте работы и начинается плавный переход от проблем по преимуществу эстетическо-филологического уровня к проблемам собственно философским, центральными среди которых являются следующие: в чем суть сократической тенденции? что такое теоретический тип человека? какова его роль во всемирной истории? За всеми этими вопросами стоит убеждение Ницше-философа в том, что современная культура (он называет ее сократической или александрийской) с ее ориентацией на науку, оказалась глубоко враждебной жизни, т.к. наука опирается на искусственный по своей природе, все умертвляющий и схематизирущий разум, противоестественный и чуждый инстинктивной по ее сути жизни. Особенно много места в работе Ницше уделяет характеристике сократической тенденции. Следует заметить, что предлагаемые им образ Сократа и толкование его места и роли в европейской философии резко диссонируют со всей историко-философской традицией, которая всегда высоко и положительно оценивала его вклад в развитие философской мысли и, более того, возводила его в ранг философских святых и мучеников. Главной чертой сократической тенденции, оказавшей, как считает Ницше, крайне отрицательное влияние на греков, является дерзкая рассудочность. Под влиянием этой тенденции на смену старой несокрушимой марафонской крепости тела и духа пришло сомнительное просвещение ‘при постоянно растущем захирении телесных и душевных сил’. Тот, кто сумел в одиночку сокрушить прекрасный греческий мир в лице Гомера, Эсхилла, Фидия, Перикла и Диониса, был человеком с чрезмерно развитой логической природой. Запущенное им огромное маховое колесо сократизма вращается, как считает Ницше, и по сей день, продолжая разлагать жизненные инстинкты, подчиняя искусство диалектической философии и лишая его прекрасного безумия художественного вдохновения. Сократ ‘изгнал музыку из трагедии’ - таков приговор Ницше, который приводит здесь одно из древнегреческих преданий, согласно которому этот деспотический логик испытывал временами нечто вроде полуукора в отношении музыки (некогда в тюрьме ему явилось видение, повторявшее: ‘Сократ, займись музыкой!’). Ницше увидел в этом событии своего рода предостережение, первый симптом-сомнение относительно границ логической природы: может быть непонятное мне не есть тем самым непременно и нечто неосмысленное? Быть может существует область музыки, из которой логик изгнан? Быть может искусство - необходимый коррелят и дополнение науки? Такого рода умонастроения, выражающие резкий протест против панлогического усечения мироздания, гипертрофированной рассудочности и абстрактного рационализма, получат затем целостную реализацию и приведут к оформлению философского движения под названием ‘философия жизни’ (см. Философия жизни), идеи которой получат колоссальное распространение в 20 ст. Именно Сократ, по Ницше, утвердил неслыханный ранее тип теоретического человека, тайну которого и пытается разгадать автор ‘Р.Т.изД.М.’. Он приводит слова Г.Э.Лессинга, который, по его мнению, и выдал эту тайну, сказав, что науку и человека науки ‘более занимает искание истины, нежели она сама’. Так, в лице Сократа впервые появляется несокрушимая вера в то, что мышление способно проникнуть в глубочайшие бездны бытия и не только познать, но даже исправить последнее. Поэтому именно в Сократе Ницше увидел поворотную точку всемирной истории, которая пошла вслед за этим греком по пути теоретического и гносеологического оптимизма, сделав главным, если не единственным, предназначением человека стремление к познанию. Ницше считает, что, реализуя эту свою претензию на систематическую целостность и завершенность, наука, тем не менее, потерпит крушение. Он говорит о необходимости возрождения трагедии, трагического миропонимания и трагического типа человека, для которых главным является ориентация на искусство, а не науку. Этой довольно символической формулой - ‘возрождение трагедии’ - философ обозначит отнюдь не только поэтическую задачу, но и по сути главную цель всей его жизни и философии, которую он затем разовьет в ‘Так говорил Заратустра’ (см.) и ряде других работ. Речь шла о следующем: как, каким путем создать такую культуру, как совокупность традиций, правил и верований, чтобы, подчиняясь ей, человек мог облагородить свой внутренний мир, стремясь ‘воспитывать себя, воскрешать красоту, добродетель, сильные, благородные страсти’. Другое дело, что в ‘Р.Т.изД.М.’ - этой ранней, проникнутой романтизмом и поклонением искусству работе, данная задача оказывается облечена именно в поэтическую форму. Так, новый тип человека (читай: сверхчеловек) для него здесь - это трагический тип, идеал культуры - трагическая культура и т.д. В соответствии с этим стилем и на его языке Ницше формулирует для себя в качестве первостепенного вопрос о том, может ли сила, погубившая греческую трагедию /т.е. теоретический дух - T.P./, помешать и сегодня пробуждению трагического миропонимания? Он считает, что когда дух науки ‘дойдет до своих границ и его притязание на универсальное значение будет опровергнуто указанием на наличность этих границ, можно будет надеяться на возрождение трагедии’. Большое место в тексте работы уделяется характеристике философом ряда обнадеживающих моментов в рамках современной культуры, которые, на его взгляд, свидетельствуют о ростках пробуждающегося нового трагического миропонимания. Речь идет прежде всего о том, что современный человек уже начинает осознавать границы теоретического познания. Ницше убежден в том, что недалек тот час, когда наука попытается из ‘этого широкого пустынного моря знания пробиться к берегу’. Более того, он пророчески предрекает те времена, когда европейское человечество в полной мере ощутит и пожнет плоды своего оптимизма. Это место работы удивительным образом перекликается с поздними текстами Ницше, особенно с ‘По ту сторону добра и зла’ (см.), ибо уже здесь он удивительным образом угадывает многие страшные события 20 в., которые будут тематизирова-ны затем его многочисленными последователями - Шпенглером, Ортега-и-Гассет, поздним Гуссерлем, Хайдеггером и т.д. Именно здесь Ницше предрекает движение европейской культуры к ее гибели, которая станет результатом ее прекрасных речей о достоинстве человека и труда и обещаний земного счастья для всех. Формулируемый им в связи с этим вывод звучит поистине ужасающе; он говорит, что ‘культура в своем триумфальном шествии одаряет только ничтожное меньшинство; для развития ее необходимо, чтобы массы оставались рабами’. При этом он ссылается на греков, которые не стыдились считать труд унизительным, полагая невозможным, чтобы занятый добыванием хлеба стал когда-нибудь артистом. Отсюда и следующий вывод ‘Р.Т.изД.М.’: рабство необходимо для развития культуры. Современная же культура, по мысли Ницше, отрицает в своем оптимистическом взгляде необходимость такого сословия: ‘нет ничего страшнее варварского сословия рабов, научившегося смотреть на свое будущее существование как на некоторую несправедливость и принимающего меры к тому, чтобы отомстить не только за себя, но и за все предшествовавшие поколения’. В этом вполне конкретные предсказания многих событий истории 20 в. Тем не менее Ницше счел возможным выявить и обнадеживающие ростки пробуждающегося уже в условиях современной ему культуры нового трагического миропонимания. Прежде всего он обращается к немецкой философии, показывая, что наиболее ‘великие, широко одаренные натуры сумели... уяснить и представить нам границы и условность познавания и тем решительно отвергнуть притязание науки на универсальное значение и универсальные цели...’ Ницше говорит о гениальных победах Канта и Шопенгауэра над ‘скрыто лежащим в существе логики’ современной культуры ‘оптимизмом’, верившим в ‘познаваемость и разрешимость всех мировых загадок’. Этим прозрением, как считает Ницше, и было положено начало трагической культуры, не опирающейся более целиком и полностью только на науку. Современная сократическая культура уже потрясена, говорит он; она уже догадывается в страхе о тех последствиях, к которым ведет, она потеряла наивное доверие в свои основы, она надломлена и уже не верит ни во что. Другого рода предзнаменование постепенного пробуждения дионисического, трагедийного духа, становится, по Ницше, немецкая музыка, ‘...могучий солнечный бег от Баха к Бетховену и от Бетховена к Вагнеру’. ‘...Среди всей нашей культуры именно она есть тот единственный непорочный, чистый и очистительный дух огня, из которого и в котором, как в учении великого Гераклита Эфесского, движутся все вещи, пробегая двойной круговой путь...’ Это таинственное, по словам Ницше, единство немецкой музыки и немецкой философии является свидетельством новой формы существования, с которым мы можем познакомиться благодаря эллинским аналогиям (так, по сравнению с Грецией, современный мир идет, по Ницше, в обратном порядке, т.е. из александрийского периода назад, - к эпохе трагедии). Философ убежден, что для немецкого духа это будет не более чем возвращением к самому себе после того, как чужеродные силы держали его под ярмом собственных сил. Теперь этот дух может вернуться к первоисточникам своего существа и без помочей романской цивилизации; он может выступить свободно вперед, если только будет способен учиться у древних греков и извлекать уроки из их прошлого. Ницше возвещает о возрождении трагедии, полагая, что именно в такой ответственный момент, когда мы подвержены опасности, нужно хорошо знать, откуда она может явиться и куда она стремится. Его призыв уверовать в возрождение трагедии равносилен призыву к возрождению жизни - дионисийской, роскошной и радостной. Время сократического человека миновало, констатирует он: ‘имейте только мужество стать теперь трагическими людьми!’ В трех завершающих главах ‘Р.Т.изД.М.’ Ницше предлагает своеобразный тест для проверки на сократичность, в котором роль основного критерия выполняет способность человека понимать миф. Ницше противопоставляет его в качестве так называемой новой истины традиционным истинам науки, считая, что хотя он и является заблуждением, это очень важное и значимое заблуждение, которое позволяет человеку выработать необходимую ему стратегию жизненного выживания. Современный человек, полагает он, потерял и трагедию и миф, что по сути одно и то же, отсюда необходимость возрождения немецкого мифа, который придаст здоровую, первобытную силу немецкому народу. Ницше еще любит свой народ и верит в возможность возрождения в нем дионисического начала с помощью немецкой музыки и мифа. Заканчивается текст книги словами вымышленного грека, вызывающего дух бога Аполлона, и призывающего его преодолеть своей просветляющей силой дионисическое подполье мира, вернув тем самым гармонию двух начал - так, как это было у греков: ‘Последуй за мной к трагедии и принеси со мной вместе жертву в храме обоих божеств’.
История Философии: Энциклопедия. - Минск: Книжный Дом . А. А. Грицанов, Т. Г. Румянцева, М. А. Можейко . 2002 .
Смотреть что такое "РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ ИЗ ДУХА МУЗЫКИ" в других словарях:
Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik … Википедия
- (Die Geburt der Tragnedie aus dem geiste der Musik , 1872) главная работа раннего, романтического этапа творчества Ницше, в период которого он находился под влиянием идей Шопенгауэра и Р.Вагнера. При написании работы Ницше использовал два… … История Философии: Энциклопедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Рождение (значения) … Википедия
|
Серия: "Философские технологии" «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) - главная работа раннего, романтического периода творчества Ницше, когда философ находился под влиянием идей Шопенгауэра иВагнера, Основу ее составили два доклада, прочитанные Ницше в Базельском музеуме зимой 1870 г., - «Греческая музыкальная драма» и «Сократ и трагедия», а также статья«Дионисическое мировоззрение», написанная полгода спустя. В апреле 1871 г. он решил дополнить книгу разделами, в которых прослеживается связь греческой трагедии с музыкальной драмой Вагнера. На материалах этих произведений Ницше решает противоречие аполлонического (созерцательного, рационального, односторонне-интеллектуального) и дионисического («жизненного», иррационального, экстатически-страстного) - двух противоположных, но неразрывно связанных друг с другом начал культуры и бытия. Усматривая культурный идеал в достижении равновесия между ними, Ницше тем не менее отдает предпочтение второму. Дионисический принцип искусства - это не созидание новых иллюзий, а торжество стихии, избыточности, спонтанной радости. Дионисический экстаз в интерпретации Ницше оказывается путем к преодолению отчуждения человека в мире. Наиболее истинными формами искусства признаются не те, что создают иллюзии, а те, что позволяют заглянуть в бездны мироздания. Издательство: "Академический проект" (2007)
ISBN: 978-5-8291-0941-7 |
Ницше Фридрих Вильгельм
| Фридрих Ницше Friedrich Wilhelm Nietzsche |
|
| Дата и место рождения: |
|
| Дата и место смерти: | |
| Школа/традиция: | |
| Период: | Философия XIX века |
| Направление: | |
| Основные интересы: | , |
Фри́дрих Ви́льгельм Ни́цше ( Friedrich Wilhelm Nietzsche ; - ) - , представитель . Он подверг резкой , и своего времени и разработал собственную теорию. Ницше был скорее литературным, чем академическим философом, и его сочинения носят характер. Философия Ницше оказала большое влияние на формирование и , и также стала весьма популярна в литературных и кругах. Интерпретация его трудов довольно затруднительна и до сих пор вызывает много споров.
Биография
Философия
Философия Ницше не организована в систему. «Волю к системе» Ницше считал недобросовестной. Его изыскания охватывают все возможные вопросы философии, религии, этики, психологии, социологии и т. д. Наследуя мысль , Ницше противопоставляет свою философию классической традиции рациональности, подвергая сомнению и вопрошанию все «очевидности» разума. Наибольший интерес у Ницше вызывают вопросы морали, «переоценки всех ценностей». Ницше одним из первых подверг сомнению единство субъекта, причинность воли, истину как единое основание мира, возможность рационального обоснования поступков. Его метафорическое, афористическое изложение своих взглядов снискало ему славу великого стилиста. Однако, афоризм для Ницше не просто стиль, но философская установка - не давать окончательных ответов, а создавать напряжение мысли, давать возможность самому читателю «разрешать» возникающие парадоксы мысли.
Ницше уточняет шопенгауэровскую «волю к жизни» как «волю к власти», поскольку жизнь есть ничто иное, как стремление расширять свою власть. Однако, Ницше критикует Шопенгауэра за , за его отрицательное отношение к жизни. Рассматривая всю культуру человечества как способ, каким человек приспосабливается к жизни, Ницше исходит из примата самоутверждения жизни, ее избытка и полноты. В этом смысле всякая религия и философия должна прославлять жизнь во всех ее проявлениях, а все, что отрицает жизнь, ее самоутверждение, - достойно смерти. Таким великим отрицанием жизни Ницше считал христианство. Ницше первым заявил, что «нет никаких моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов» , тем самым подвергнув все моральные положения . Согласно Ницше, здоровая мораль должна прославлять и укреплять жизнь, ее волю к власти. Всякая иная мораль - упадочна, есть симптом болезни, decadence. Человечество инстинктивно использует мораль для того, чтобы добиваться своей цели - цели расширения своей власти. Вопрос не в том, истинна ли мораль, а в том, служит ли она своей цели. Такую «прагматическую» постановку вопроса мы наблюдаем у Ницше в отношении к философии и культуре вообще. Ницше ратует за приход таких «свободных умов», которые поставят себе сознательные цели «улучшения» человечества, умы которых уже не будут «задурманены» никакой моралью, никакими ограничениями. Такого «сверхнравственного», «по ту сторону добра и зла» человека Ницще и называет «сверхчеловеком».
В отношении познания, «воли к истине» Ницше опять же придерживается своего «прагматического» подхода, спрашивая «для чего нам нужна истина?» Для целей жизни истина не нужна, скорее иллюзия, самообман ведут человечество к его цели - самосовершенствованию в смысле расширения воли к власти. Но «свободные умы», избранные должны знать правду, чтобы мочь управлять этим движением. Эти избранные, имморалисты человечества, созидатели ценностей должны знать основания своих поступков, отдавать отчет о своих целях и средствах. Этой «школе» свободных умов Ницше посвящает многие свои произведения.
Мифология
Образность и метафоричность произведений Ницше позволяет выделить у него определенную мифологию:
- Ницше исходит из двойственности () культуры, где борются начала и . Аполлон (греческий бог света) символизирует собой порядок и гармонию, а Дионис (греческий бог виноделия) - тьму, хаос и избыток силы. Эти начала не равнозначны. Темный бог древнее. Сила вызывает порядок, Дионис порождает Аполлона. Дионисийская воля (der Wille - в германских языках означает желание) всегда оказывается волей к власти - это интерпретация онтологической основы сущего. Ницше подобно испытал влияние . Весь ход эволюции и борьба за выживание ( struggle for existence ) не что иное, как проявление этой воли к власти. Больные и слабые должны погибнуть, а сильнейшие - победить. Отсюда Ницше: «Падающего толкни!», который следует понимать не в том упрощённом смысле, что не следует помогать ближним, но в том, что самая действенная помощь ближнему - дать ему возможность достигнуть крайности, в которой можно будет положиться только на свои инстинкты выживания, чтобы оттуда возродиться или погибнуть. В этом проявляется вера Ницше в жизнь, в её возможность самовозрождения и сопротивления всему роковому. «То, что не убивает нас, делает нас сильнее»!
- Как от обезьяны произошел человек, так в результате этой борьбы человек должен эволюционировать в (Übermensch). и все т. н. духовные ценности - это всего лишь орудие для достижения господства. Поэтому сверхчеловек отличается от простых людей прежде всего несокрушимой волей. Это скорее гений или бунтарь, чем правитель или герой. Подлинный сверхчеловек - это разрушитель старых ценностей и творец новых. Он господствует не над стадом, а над целыми поколениями. Однако воля не имеет поступательного движения вперед. Её основными врагами являются собственные проявления, то, что Маркс называл силой отчуждения духа. Единственные оковы волевого человека - это его собственные обещания. Создавая новые ценности, сверхчеловек порождает культуру - или Духа тяжести , подобно льду, сковывающему реку воли. Поэтому должен прийти новый сверхчеловек - . Он не разрушает старые ценности. Они исчерпали себя сами, ибо, утверждает Ницше, мертв. Наступила эпоха европейского , для преодоления которого Антихрист должен создать новые ценности. Смиренной и завистливой морали рабов он противопоставит мораль господ . Однако потом будет рожден новый Дракон и придет новый сверхчеловек. Так будет до бесконечности, ибо в этом проявляется вечное возвращение . Одним из основных понятий в философии Ницше является decadence ().
Цитаты
«"Цель", "надобность" достаточно часто оказываются лишь благовидным предлогом, добавочным самоослеплением тщеславия, не желающего признаться, что корабль следует течению, в которое он случайно попал»
«...Как будто ценности скрыты в вещах и все дело только в том, чтобы овладеть ими!»
«Ах, как удобно вы пристроились! У вас есть закон и дурной глаз на того, кто только в помыслах обращен против закона. Мы же свободны - что знаете вы о муке ответственности в отношении самого себя!»
«Вся наша социология не знает другого инстинкта, кроме инстинкта стада, т.е. суммированных нулей, - где каждый нуль имеет «одинаковые права», где считается добродетелью быть нулем…»
«Добродетель опровергается, если спрашивать, «зачем?»…»
«Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы!»
«Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»
«Есть два вида одиночества. Для одного одиночество - это бегство больного, для другого - бегство от больных»
«Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь»
«Каждый малейший шаг на поле свободного мышления и лично формируемой жизни всегда завоевывается ценой духовных и физических мучений»
«Критика новейшей философии: ошибочность отправного пункта, будто существуют «факты сознания» - будто в области самонаблюдения нет места феноменализму»
«Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно опередил его - или отстал от него»
«Мы - наследники совершавшихся в течение двух тысячелетий вивисекции совести и самораспятия.»
«Наедине с собою мы представляем себе всех простодушнее себя: таким образом мы даем себе отдых от наших ближних»
«Ничто не покупается за большую цену, чем частица человеческого разума и свободы…»
«Ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как «безличный долг», как жертва молоху абстракции…»
«Познавший самого себя - собственный палач»
«С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже уходят корни его в землю, вниз, в мрак и глубину - ко злу.»
«Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни»
«Человек понемногу стал фантастическим животным, которое в большей степени, чем любое другое животное, тщится оправдать условие существования: человеку должно время от времени казаться, что он знает, почему он существует, его порода не в состоянии преуспевать без периодического доверия к жизни, без веры в разум, присущий жизни»
«Человек предпочитает желать небытие, нежели вообще не желать»
«Человечество является скорее средством, а не целью. Человечество является просто подопытным материалом»
«Чтобы моральные ценности могли достигнуть господства, они должны опираться исключительно на силы и аффекты безнравственного характера.»
«Я не бегу близости людей: как раз даль, извечная даль, пролегающая между человеком и человеком, гонит меня в одиночество»
«…Но то, что убеждает, тем самым еще не становится истинным: оно только убедительно. Примечание для ослов.»
- «Бог умер» (Эта фраза встречается в произведении "так говорил Заратустра")
- «Бог мертв; из-за сострадания своего к людям умер Бог» («Так говорил Заратустра», глава «О сострадательных»)
- «„Сам Бог не может существовать без мудрых людей“, - сказал Лютер, и с полным правом; но „Бог ещё менее может существовать без неумных людей“ - этого Лютер не сказал!»
- «Если Бог хотел стать предметом любви, то ему следовало бы сперва отречься от должности судьи, вершащего правосудие: судья, и даже милосердный судья, не есть предмет любви»
- «Злой бог нужен не менее доброго - ведь и своим собственным существованием ты обязан отнюдь не терпимости и филантропии… Какой прок от бога, которому неведомы гнев, зависть, хитрость, насмешка, мстительность и насилие?»
- «Без догматов веры никто не смог бы прожить и мгновения! Но тем самым догматы эти еще отнюдь не доказаны. Жизнь вовсе не аргумент; в числе условий жизни могло бы оказаться и заблуждение»
- «Темой для великого поэта могла бы стать скука Всевышнего после седьмого дня Творения»
- «В каждой религии религиозный человек есть исключение»
- «Верховный тезис: „Бог прощает кающемуся“, - то же в переводе: прощает тому, кто покорствует жрецу…»
- «Догмат о „непорочном зачатии“?.. Да ведь им опорочено зачатие…»
- «Чистый дух - чистая ложь»
- «Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы»
- «Слово „христианство“ основано на недоразумении; в сущности, был один христианин, и тот умер на кресте»
- «Основатель христианства полагал, что ни от чего не страдали люди сильнее, чем от своих грехов: это было его заблуждением, заблуждением того, кто чувствовал себя без греха, кому здесь недоставало опыта!»
- «Учение и апостол, который не видит слабости своего учения, своей религии и т. д., ослеплённый авторитетом учителя и благоговением к нему, обыкновенно обладает большей силой, чем учитель. Никогда ещё влияние человека и его дела не разрастались без слепых учеников»
- «Вера спасает, - следовательно, она лжёт»
- «Буддизм не обещает, а держит слово, христианство обещает всё, а слова не держит»
- «Мученики только вредили истине»
- «Человек забывает свою вину, когда исповедуется в ней другому, но этот последний обыкновенно не забывает её»
- «Кровь - самый худший свидетель истины; кровью отравляют самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец»
- «Добродетель только тем дает счастье и некоторое блаженство, кто твёрдо верит в свою добродетель, - отнюдь не тем более утончённым душам, чья добродетель состоит в глубоком недоверии к себе и ко всякой добродетели. В конце концов и здесь „вера делает блаженным“! - а не, хорошенько заметьте это, добродетель!»
- «Моральные люди испытывают самодовольство при угрызениях совести»
- «Школа выживания: что нас не убивает, делает нас сильнее»
- «Любите, пожалуй, своего ближнего, как самого себя. Но прежде всего будьте такими, которые любят самих себя»
- «Еврей-биржевик есть самое гнусное изобретение всего человеческого рода.» (Данная фраза была дописана сестрой Ницше, в годы его безумия, сам Ницше презирал антисемитов)
- «Идёшь к женщине - бери плётку»
- «Без музыки жизнь была бы ошибкой»
- «Благословенны забывающие, ибо не помнят они собственных ошибок»
Произведения
Основные произведения
- «» (Die Geburt der Tragödie , 1871)
- «Несвоевременные размышления» (Unzeitgemässe Betrachtungen , 1872-1876)
- «Давид Штраус в роли исповедника и писателя» (David Strauss: der Bekenner und der Schriftsteller , 1873)
- «О пользе и вреде истории для жизни» (Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben , 1874)
- «Шопенгауэр как воспитатель» (Schopenhauer als Erzieher , 1874)
- «Рихард Вагнер в Байрейте» (Richard Wagner in Bayreuth , 1876)
- « » (Menschliches, Allzumenschliches , 1878)
- «Смешанные мнения и изречения» (Vermischte Meinungen und Sprüche , 1879)
- «Странник и его тень» (Der Wanderer und sein Schatten , 1879)
- «Утренняя заря, или мысли о моральных предрассудках» (Morgenröte , 1881)
- «Веселая наука» (Die fröhliche Wissenschaft , 1882, 1887)
- « » (Also sprach Zarathustra , 1883-1887)
- « » (Jenseits von Gut und Böse , 1886)
- «К генеалогии морали. Полемическое сочинение» (Zur Genealogie der Moral , 1887)
- «Казус Вагнер» (Der Fall Wagner , 1888)
- « » (Götzen-Dämmerung , 1888), книга также известна под названием «Сумерки богов»
- « » (Der Antichrist , 1888)
- «Ecce Homo. Как становятся сами собою» (Ecce Homo , 1888)
- «Воля к власти» (Der Wille zur Macht , 1886-1888, изд. 1901), книга, собранная из заметок Ницше редакторами Э. Фёрстер-Ницше и П. Гастом. Как доказал М. Монтинари, хотя Ницше и планировал написать книгу «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей» (Der Wille zur Macht - Versuch einer Umwertung aller Werte ), о чем упоминается в конце произведения «К генеалогии морали», но оставил этот замысел, при этом черновики послужили материалом для книг «Сумерки идолов» и «Антихрист» (обе написаны в 1888).
Прочие произведения
- «Гомер и классическая филология» (Homer und die klassische Philologie , 1869)
- «О будущности наших образовательных учреждений» (Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten , 1871-1872)
- «Пять предисловий к пяти ненаписанным книгам» (Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern , 1871-1872)
- «О пафосе истины» (Über das Pathos der Wahrheit )
- «Мысли о будущности наших образовательных учреждений» (Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten )
- «Греческое государство» (Der griechische Staat )
- «Соотношение между философией Шопенгауэра и немецкой культурой (Das Verhältnis der Schopenhauerischen Philosophie zu einer deutschen Cultur )
- „Гомеровское соревнование“ (Homers Wettkampf )
- „Об истине и лжи во вненравственном смысле“ (Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn , 1873)
- „Философия в трагическую эпоху Греции“ (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen )
- „Ницше против Вагнера“ (Nietzsche contra Wagner , 1888)
Юношеские произведения
- „Из моей жизни“ (Aus meinem Leben , 1858)
- „О музыке“ (Über Musik , 1858)
- „Наполеон III как президент“ (Napoleon III als Praesident , 1862)
- „Фатум и история“ (Fatum und Geschichte , 1862)
- „Свободная воля и фатум“ (Willensfreiheit und Fatum , 1862)
- „Может ли завистник быть действительно счастливым?“ (Kann der Neidische je wahrhaft glücklich sein? , 1863)
- „О настроениях“ (Über Stimmungen , 1864)
- „Моя жизнь“ (Mein Leben , 1864)
Библиография
- Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах / Пер. с нем. В. М. Бакусева; Ред. совет: А. А. Гусейнов и др.; Ин-т философии РАН. - М.: Культурная революция, 2005.
- Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах: Т. 12: Черновики и наброски, 1885-1887 гг. - М.: Культурная революция, 2005. - 556 с ISBN 5-902764-07-6
- Марков, Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше . - СПб.: Владимир Даль: Русский остров, 2005. - 786 с - (Мировая Ницшеана). - ISBN 5-93615-031-3 ISBN 5-902565-09-X
Примечания
Ссылки
- Видео о последних днях Ф. Ницше, 1899 на Картины Хейдиз из цикла Так говорил Заратустра
- Даниил Галеви Жизнь Фридриха Ницше
Другие книги схожей тематики:
| Автор | Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |
|---|---|---|---|---|---|
| Фридрих Ницше | Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | В данном произведении Ницше развертывает впечатляющую картину продолжающегося воздействия на мышление, вообще на человечество, мира греческих богов. Два из них - Аполлон и Дионис, являются для Ницше… - Академический Проект, (формат: 84x108/32, 176 стр.) Философские технологии | 2007 | 121 | бумажная книга |
| Ницше Ф.В. | Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | В издании представлена первая работа Ф. Ницше, написанная в 1872 году. В ней закладываются основы его оригинальной философии. Ключевая идея этой работы заключается вдвойственной - аполлонической и… - Пальмира, (формат: 80х100/32, 206 стр.) искусство и действительность | 2017 | 390 | бумажная книга |
| Ницше Ф. | Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | В издании представлена первая работа Ф. Ницше, написанная в 1872 году. В ней закладываются основы его оригинальной философии. Ключевая идея этой работы заключается вдвойственной - аполлонической и… - Рипол-Классик, (формат: Мягкая бумажная, 206 стр.) | 2017 | 406 | бумажная книга |
| Фридрих Ницше | Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | В издании представлена первая работа Ф. Ницше, написанная в 1872 году. В ней закладываются основы его оригинальной философии. Ключевая идея этой работы заключается в двойственной - аполлонической и… - (формат: 120x195мм, 206 стр.) Искусство и действительность | 2016 | 353 | бумажная книга |
| Ницше Фридрих Вильгельм | Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | В издании представлена первая работа Ф. Ницше, написанная в 1872 году. В ней закладываются основы его оригинальной философии. Ключевая идея этой работы заключается вдвойственной аполлонической и… - Пальмира, (формат: 120x195мм, 206 стр.) | 2017 | 351 | бумажная книга |
| Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | В издании представлена первая работа Ф. Ницше, написанная в 1872 году. В ней закладываются основы его оригинальной философии. Ключевая идея этой работы заключается в - (формат: 120x195мм, 206 стр.) | 340 | бумажная книга | ||
| Фридрих Вильгельм Ницше | В настоящее издание вошли две известные работы немецкого философа – «Так говорил Заратустра» и «Рождение трагедии, или Эллинство». «Так говорил Заратустра» – самое известное произведение Ницше… - ЮРАЙТ, (формат: 206.00mm x 137.00mm x 23.00mm, 479 стр.) Антология мысли электронная книга | 2017 | 549 | электронная книга | |
| Ницше Ф.В. | Так говорил заратустра. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм | В настоящее издание вошли две известные работы немецкого философа - 171;Так говорил Заратустра 187;и 171;Рождение трагедии, или Эллинство 187;. 171;Так говорил Заратустра 187;- самое… - Юрайт, (формат: 206.00mm x 137.00mm x 23.00mm, 479 стр.) Антология мысли | 2017 | 905 | бумажная книга |
| Ницше Ф.В. | Так говорил заратустра. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм | В настоящее издание вошли две известные работы немецкого философа&171;Так говорил Заратустра&187;и&171;Рождение трагедии, или Эллинство&187;.&171;Так говорил Заратустра&187;самое известное… - ЮРАЙТ, (формат: 120x195мм, 206 стр.) Антология мысли | 2017 | 1135 | бумажная книга |
| Ницше Фридрих Вильгельм | Собрание сочинений. Том 1. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. Несвоевременные размышления | Фридрих Ницше - немецкий философ, филолог-классик, поэт, великий ниспровергатель кумиров, антихристианин и нигилист, автор знаменитых трудов, вот уже полтора века волнующих воображение читателей… - Пальмира, (формат: 84x108/32, 176 стр.) Собрание сочинений в пяти томах | 2017 | 686 | бумажная книга |
| Ницше, Фридрих Вильгельм | Т. 1: Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. Несвоевременные размышления | Фридрих Ницше - немецкий философ, филолог-классик, поэт, великий ниспровергатель кумиров, антихристианин и нигилист, автор знаменитых трудов, вот уже полтора векаволнующих воображение читателей всего… - Пальмира, (формат: 206.00mm x 137.00mm x 23.00mm, 479 стр.) собрание сочинений в пяти томах | 2017 | 642 | бумажная книга |
| Ницше Фридрих Вильгельм | Фридрих Ницше - немецкий философ, филолог-классик, поэт, великий ниспровергатель кумиров, антихристианин и нигилист, автор знаменитых трудов, вот уже полтора века волнующих воображение читателей… - Пальмира, (формат: 120x195мм, 206 стр.) Собрание сочинений | 2018 | 721 | бумажная книга | |
| Ницше Фридрих Вильгельм | Собрание сочинений в 5-ти томах. Том 1. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | Фридрих Ницше - немецкий философ, филолог-классик, поэт, великий ниспровергатель кумиров, антихристианин и нигилист, автор знаменитых трудов, вот уже полтора века волнующих воображение читателей… - Рипол-Классик, (формат: 120x195мм, 206 стр.) Собрание сочинений | 2018 | 375 | бумажная книга |
| Фридрих Ницше | Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм (аудиокнига MP3) | "Рождение трагедии" (1872) - первая книга Ницше, связавшая проблемы классической филологии с наиболее жгучими проблемами современности. Настоящее издание подготовлено на основе перевода Г. А… - МедиаКнига, (формат: 84x108/32, 176 стр.) аудиокнига | 2010 | 314 | аудиокнига |
| CD-ROM (MP3). Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм | "Рождение трагедии" (1872) -первая книга Ницше, связавшая проблемы классической филологии с наиболее жгучими проблемами современности.
Настоящее издание подготовлено на основе перевода Г. А… -
- (Die Geburt der Tragnedie aus dem geiste der Musik , 1872) главная работа раннего, романтического этапа творчества Ницше, в период которого он находился под влиянием идей Шопенгауэра и Р.Вагнера. При написании работы Ницше использовал два… … История Философии: Энциклопедия
Запрос «Ницше» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Фридрих Ницше Friedrich Nietzsche … Википедия - (Nietzsche) Фридрих (1844 1900) немецкий мыслитель, в значительной мере определивший новую культурно философскую ориентацию и основные черты неклассического типа философствования, основатель ‘философии жизни’. Идеи Н. во многом предвосхитили… … История Философии: Энциклопедия Википедия Фридрих Ницше Friedrich Wilhelm Nietzsche Дата и место рождения: 15 октября 1844 Рёккен, Пруссия … Википедия |
Чтобы быть справедливым к "Рождению трагедии" (1872), надо забыть о некоторых вещах. Эта книга влияла и даже очаровывала тем, что было в ней неудачного, - своим применением к вагнерщине, как если бы последняя была симптомом восхождения. Именно поэтому это сочинение было событием в жизни Вагнера: лишь с тех пор стали связывать с именем Вагнера большие надежды. Еще и теперь напоминают мне иногда при представлении Парсифаля, что собственно на моей совести лежит происхождение столь высокого мнения о культурной ценности этого движения. - Я неоднократно встречал цитирование книги как "Возрождения трагедии из духа музыки": были уши только для новой формулы искусства, цели, задачи Вагнера - сверх этого не услышали всего, что эта книга скрывала в основе своей ценного. "Эллинство и пессимизм": это было бы более недвусмысленным заглавием - именно, как первый урок того, каким образом греки отделывались от пессимизма, - чем они преодолевали его... Трагедия и есть доказательство, что греки не были пессимистами. Шопенгауэр ошибся здесь, как он ошибался во всем. - Взятое в руки с некоторой нейтральностью, "Рождение трагедии" выглядит весьма несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно начато под гром битвы при Верте. Я продумал эту проблему под стенами Метца в холодные сентябрьские ночи, среди обязанностей санитарной службы; скорее можно было бы вообразить, что это сочинение старше пятьюдесятью годами. Оно политически индифферентно - "не по-немецки", скажут теперь, - от него разит неприлично гегелевским духом, оно только в нескольких формулах отдает трупным запахом Шопенгауэра. "Идея" - противоположность дионисического и аполлонического - перемещенная в метафизику; сама история, как развитие этой идеи; упраздненная в трагедии противоположность единству, - при подобной оптике все эти вещи, еще никогда не смотревшие друг другу в лицо, теперь были внезапно противопоставлены одна другой, одна через другую освещены и поняты... Например, опера и революция... Два решительных новшества книги составляют, во-первых, толкование дионисического феномена у греков - оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. - Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, узнанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный decadent. "Разумность" против инстинкта. "Разумность" любой ценой, как опасная, подрывающая жизнь сила! Глубокое враждебное умолчание христианства на протяжении всей книги. Оно ни аполлонично, ни дионисично; оно отрицает все эстетические ценности единственные ценности, которые признает "Рождение трагедии": оно в глубочайшем смысле нигилистично, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний предел утверждения. В то же время здесь есть намек на христианских священников как на "коварный род карликов", "подпольщиков"...
Это начало замечательно сверх всякой меры. Для своего наиболее сокровенного опыта я открыл единственное иносказание и подобие, которым обладает история, - именно этим я первый постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же фактом признания decadent в Сократе дано было вполне недвусмысленное доказательство того, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии, - сама мораль, как симптом декаданса, есть новшество, есть единственная и первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой, плоской болтовней на тему: оптимизм contra пессимизм! - Я впервые узрел истинную противоположность - вырождающийся инстинкт, обращённый с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типичные формы), и рождённая из избытка, из преизбытка формула высшего утверждения, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании... Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое глубокое, наиболее строго утверждённое и подтверждённое истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего - отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, назвать хорошим инстинкт decadence. Чтобы постичь это, нужно мужество и, как его условие, избыток силы: ибо, насколько мужество может отважиться на движение вперёд, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и бегство от реальности - "идеал"... Слабые не вольны познавать: decadents нуждаются во лжи - она составляет одно из условий их существования. - Кто не только понимает слово "дионисическое", но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона, или христианства, или Шопенгауэра, - он обоняет разложение...
В какой мере я нашёл понятие "трагического", конечное познание того, что такое психология трагедии, это выражено мною ещё в Сумерках идолов (II 1032) : "Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых её проблемах; воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости, - вот что назвал я дионисическим, вот в чём угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением - так понимал это Аристотель, - а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, быть самому вечной радостью становления, - той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения..." В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого трагического философа стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. До меня не существовало этого превращения дионисического состояния в философский пафос: недоставало трагической мудрости - тщетно искал я её признаков даже у великих греческих философов за два века до Сократа. Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличительное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, становление, при радикальном устранении самого понятия "бытие" - в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о "вечном возвращении", стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, - это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита. Следы его есть по крайней мере у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления.
Из этого сочинения говорит чудовищная надежда. В конце концов у меня нет никакого основания отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперёд, предположим случай, что моё покушение на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмёт в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание человечества, и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле преизбыток жизни, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю трагический век: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество, без страдания, оставит позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах... Психолог мог бы еще добавить, что то, что я слышал в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал то, что я слышал, что я инстинктивно должен был перенести и перевоплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому - настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным, - есть мое сочинение "Вагнер в Байрейте": во всех психологически-решающих местах речь идет только обо мне - можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово "Заратустра" там, где текст дает слово: Вагнер. Весь образ дифирамбического художника есть образ предсуществующего поэта Заратустры, зарисованный с величайшей глубиною, без малейшего касания вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. - Равным образом "идея Байрейта" превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего Заратустры: в тот великий полдень, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, - кто знает? призрак праздника, который я еще переживу... Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос; взгляд, о котором идет речь на седьмой странице, есть доподлинный взгляд Заратустры; Вагнер, Байрейт, все маленькое немецкое убожество суть облако, в котором отражается бесконечная фатаморгана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной натуры перенесены на натуру Вагнера - совместность самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой никогда еще не обладал человек, безоглядная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, без того чтобы ею подавлялась воля к действию. Всё в этом сочинении возвещено наперед: близость возвращения греческого духа, необходимость анти-Александров, которые снова завяжут однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... Пусть вслушаются во всемирно-исторические слова, которые вводят (I 34 сл.) понятие "трагического чувства": в этом сочинении есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная "объективность", какая только может существовать: абсолютная уверенность в том, что я собою представляю, проецировалась на любую случайную реальность, - истина обо мне говорила из полной страха глубины. На стр. 55 описан и предвосхищен с поразительной надежностью стиль Заратустры; и никогда не найдут более великолепного выражения для события Заратустра, для этого акта чудовищного очищения и освящения человечества, чем на стр. 41-44.
Фридрих Ницше находит в классической афинской трагедии художественную форму, основанную на пессимизме и нигилизме, которые порождаются бессмысленным по своей сути миром. Греческие зрители, глядя в бездну человеческого страдания и принимая его, страстно и радостно утверждали смысл собственного существования. Они осознавали себя бесконечно выше обычных мелких индивидуальностей, находя самоутверждение не в иной жизни и не в грядущем мире, но в ужасе и экстазе, переживаемых во время исполнения трагедий.
Фридрих Ницше. Рисунок Х. Ольде, 1899
Филолог по образованию, Ницше размышляет об истории рождения трагической формы искусства и вводит понятие о дихотомии (раздвоенности) между «дионисийским» и «аполлоновским» началами (то есть, о представлении реальности как дикой, неоформленной чувственной стихии – и её упорядоченности по ясным, хорошо различаемым друг от друга формам). Жизнь, считает Ницше, постоянно проходит в борьбе между этими двумя элементами, каждый из которых оспаривает у другого господство над человеческим духом. Согласно Ницше, там, где преобладает дионисийское, аполлоновское вытесняется и уничтожается, а там где первый натиск дионисийского успешно отражается, власть и величие дельфийского бога Аполлона проявляется более жестко и грозно, чем когда-либо. Тем не менее, ни одно из двух начал никогда не может возобладать над другим полностью, ибо им суждено существовать в вечном, естественном равновесии.
«Рождение трагедии из духа музыки» — трактат Ф. Ницше. Над этим сочинением Ницше работал в период с осени 1869 по ноябрь 1871 г. Первые варианты заглавия: «Греческая веселость», «Происхождение и стиль трагедии». В январе 1872 г. книга вышла в свет с посвящением Р. Вагнеру, которого молодой философ в то время боготворил. В 1886 г., готовя новое издание, Ницше написал предисловие («Опыт самокритики») и дал новое название: «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм».
В «Рождении трагедии...» Ницше ставит задачу развить учение об искусстве не с помощью понятий и логических уразумений, а в «резко отчетливых образах» двух греческих богов — Аполлона и Диониса. Аполлонийство и дионисийство философ рассматривает как два начала цивилизации и культуры, враждующие между собой, но и дополняющие друг друга. Согласно Ницше, дионисийство есть иррациональная, оргиастическая, «ночная» стихия, тогда как аполлонийство подразумевает порядок, меру и гармонию. Аполлонийство — индивидуально, дионисийство — тотально. Детища Аполлона — пластические искусства и в первую очередь скульптура с ее упорядоченностью форм и пропорций. Творение Диониса — музыка, погруженная в мир чувствований и страстей. Из духа музыки рождается древнегреческая трагедия, сохраняя связь с ней в экстатических плясках и песнопениях хора, в патетическом строе действия.
Исследуя «ночную» символику дионисийства, Ницше бросил вызов новоевропейским рационалистическим концепциям аттической культуры, опиравшимся на знаменитую формулу Винкельмана «Спокойное величие и благородная простота». Философ открыл иную Элладу, где космос и хаос образуют диалектическое единство, что в представлении Ницше демонстрирует идеальное состояние культуры. Дальнейшую ее эволюцию Ницше расценивает как деградацию, в ходе которой происходит омертвение культуры, опирающейся теперь на «ученые подражания», следующей рационалистическому принципу «всё должно быть разумным, чтобы быть прекрасным».
Книга Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» явилась манифестом эстетизма, для которого «только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности».
В «Опыте самокритики» Ницше определял задание трактата как попытку «взглянуть на науку под углом зрения художника, на искусство же под углом зрения жизни». Мифологическая символика и демонстративная литературность труда Ницше вызвали резкую отповедь со стороны ученых кругов. Можно утверждать, что автор «Рождения трагедии из духа музыки» произвел переворот в гуманитарном сознании. Под его влиянием сциентизм XIX века с его кодексом «науки логики» сменяется в XX столетии разнообразными попытками синтезировать научное, художественное и мифологическое мышление. Впоследствии в философской эссеистике и литературной критике получает широкое хождение оппозиция аполлонийского и дионисийского начал, нередко приобретающая оригинальные, независимые от Ницше толкования (например, у В.И. Иванова).

 ,
,