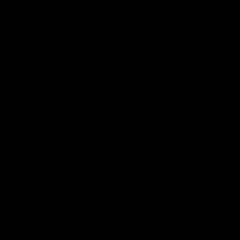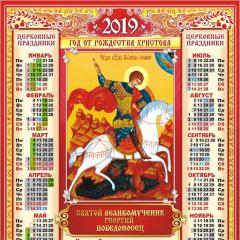Ильина З. Д., Пигорева О
Русская Церковь обогатилась большим числом мучеников и исповедников за многострадальный ХХ век. Их подвиг, вне сомнения, достоин стать одной из центральных тем богословского осмысления современной религиозно-философской мысли. Автор доклада А.Л. Беглов, к. ист. н., размышляет над возможными направлениями этого вектора осмысления.
1. «Жертвы» или «герои»: осмысление подвига новомучеников в современной литературе
Как мы сказали, сопоставление российских новомучеников и мучеников первых веков достаточно распространено. Наряду с этим обращалось внимание и на существенное отличие этих явлений.
Мученики первых веков были и сохранились в церковном предании как свидетели веры и воскресения, которые будучи поставлены перед выбором — вера во Христа и смерть или отречение от Него и сохранение жизни — выбрали веру и пребывание со Спасителем и тем самым засвидетельствовали истинность Его воскресения.
В отличие от них, мученики ХХ столетия часто были лишены какой бы то ни было возможности выбора. Будучи представителями групп, подлежавших социальной сегрегации, они были обречены на лишение гражданских прав, а затем и жизни.
В подавляющем большинстве случаев им никто не предлагал сохранить жизнь ценой отречения от веры. Они оказывались не свидетелями, а жертвами. В этой связи можно вспомнить афоризм Варлама Шаламова, сказавшего, что в сталинских лагерях нет героев, а есть только жертвы.
Если это так, то в чем состоит подвиг новомучеников ? Действительно ли мы в их лице почитаем только жертв , подобных невинным (и неосознанным) вифлеемским младенцам-мученикам, «которых убили только за то, что Бог стал человеком»?
Ключ к пониманию феномена новомучеников мы можем найти, обратившись к рассмотрению особенностей советской репрессивной политики.
2. Подвиг новомучеников в свете особенностей советской репрессивной политики
Массовые репрессии 1920-1950-х гг. с их арестами, лагерями и казнями, были только вершиной айсберга советской репрессивной политики, которая основывалась на массовой социальной сегрегации .
Сегрегация по классовому признаку была официальной политикой Советской России в 1918-1936 гг., закрепленной в первых конституциях. Тогда целые категории жителей советской республики были лишены гражданских прав, прежде всего пассивного и активного избирательного права.
Среди этих категорий были бывшие дворяне, бывшие крупные собственники, духовенство, представители армии и полиции старого порядка, а с начала 1930-х гг. — и раскулаченные крестьяне.
Лишение гражданских прав, зачисление в категорию «лишенцев» для этих людей было только началом испытаний, поскольку именно они попадали под каток повышенного налогообложения, именно они в первую очередь подлежали выселению из крупных городов во время их «чисток», их дети были лишены права на высшее образование, они были лишены доступа к централизованному снабжению продовольствием в период существования карточной системы, что фактически означало обреченность на голодную смерть, именно они, в конце концов, оказывались в первую очередь в числе политически неблагонадежных и значит — кандидатов на политическую репрессию.
С 1936 г. категория лишенцев формально была упразднена, но социальная сегрегация фактически продолжала оставаться нормой советской политики и в последующие десятилетия. Наряду с открыто декларировавшейся классовой сегрегацией, существовала тайная, но в общем известная всем жителям страны, сегрегация по другим признакам.
Среди них были: религиозная принадлежность, принадлежность к считавшейся неблагонадежной национальной (поляки, латыши, немцы и др.) или локальной группе («харбинцы»), принадлежность к социально маркированным и девиантным группам (ранее судимые, бездомные, проститутки...).
При этом все это была именно социальная сегрегация, поскольку человека к той или иной ущемленной в правах категории относили не на основании его доказанных преступных деяний, а на основании «учетных» (анкетных) данных или характерных черт его поведения (хождение в церковь, попрошайничество...).
Только формальная принадлежность к той или иной группе населения, которая в данный момент квалифицировалась как вражеская, была достаточным основанием и для расстрела в ходе многочисленных «массовых операций» ОГПУ-НКВД (кулацкой, офицерской, разных национальных и т.д.).
Что может дать нам взгляд на советскую репрессивную политику как на политику массовой социальной сегрегации для осмысления подвига новомучеников ?
Думается, достаточно много. Верующие были одной из главных категорий населения, подвергавшейся различным притеснениям. Конечно, основной удар сегрегационной политики советской власти приходился на духовенство и монашествующих, но и рядовые верующие оказывались под постоянным давлением.
Явная церковная позиция была чревата серьезными осложнениями на работе и дома, особенно в коммунальных квартирах, она непременно оборачивалась препятствиями в карьерном росте, верующие могли подвергнуться давлению комсомола, общественников или других организаций, занимавшихся антирелигиозной пропагандой.
Изменения рабочего графика на производстве (пятидневка и десятидневка) делали невозможным посещение храмов по воскресеньям. В конце концов, контакты с духовенством могли стать поводом для обвинения рядовых верующих в участии в «антисоветских организациях» и сделать их объектом репрессий.
В этой ситуации продолжение обыденной, повседневной религиозной жизни становилось подвигом и означало то, что те, кто продолжали жить церковной жизнью, сделали осознанный и очень не простой в тех условиях выбор .
Этот выбор означал принесение маленькой или более существенной жертвы, и — что важно — готовность к еще большей жертве . Если духовенство, монашествующие, часто — члены приходского управления были обречены, то многие рядовые прихожане действительно выбирали между верой, которая сулила опасности, и молчаливым, негласным, но все же отречением.
Обыденный выбор в пользу веры, сделанный массами верующих, поддерживал духовенство и иерархию, давал жизнь Церкви , собственно благодаря ему, несмотря на все усилия власти, страна продолжала принадлежать к христианской цивилизации.
Иначе говоря, если сотни тысяч иерархов, священников и верующих приняли смерть, то миллионы были готовы это сделать.
Жизнь во Христе для них стала главной ценностью. Ради ее сохранения они готовы были терпеть мелкие и большие притеснения, подвергать себя малым и существенным опасностям. Тем самым, при осмыслении подвига новомучеников мы должны перенести внимание с казни и смерти на обстоятельства их жизни , на тот обыденный, повседневный подвиг их и их близких, который предшествовал их аресту. Арест в данном случае оказывался логическим завершением их жизни.
Пострадавшие и прославленные новомученики и исповедники Российские оказываются в таком случае своего рода авангардом многих и многих верующих, которые также на своем месте и в силу своего призвания хранили верность Церкви и Спасителю в своей повседневной жизни.
Опыт жизни новомучеников оказывается квинтессенцией опыта всех верных Российской Церкви этого периода. А значит, почитая новомучеников, мы чтим подвиг всех российских христиан ХХ столетия , которые не побоялись продолжать жить во Христе в воинствующе антихристианских условиях. ...
Таким образом, понимая подвиг новомучеников как подвиг продолжения жизни во Христе , мы должны более пристальное внимание обратить на характеристики этой жизни, на реальные ее обстоятельства.
И выясняется, что мы оказываемся перед широким полем, на котором существуют самые многообразные проявления обыденного христианского подвига. Представляется, что эти формы христианской жизни , характерные для эпохи нового мученичества, могут быть разделены на три категории.
Во-первых, речь может идти о новых формах общественно-церковного устроения , созданных этой эпохой. Во-вторых, — о новых жизненных практиках христиан, актуализированных гонениями. Наконец, в-третьих, — об интеллектуальном ответе , данном поколением мучеников и исповедников на вызовы своего времени.
Все это и может быть осознано как опыт новомучеников и исповедников Российских. Попытаемся кратко охарактеризовать каждую из этих категорий в свете достижений новейшей историографии.
3. Церковно-общественная активность
Рубеж 1910-1920-х гг. стал временем бурного роста церковно-общественных объединений (братства, различные кружки и приходские союзы, союзы приходов). Все это происходило на фоне подъема собственно приходской жизни, активизации работы с молодежью, благотворительной деятельности приходов и под.
Причем этот рост церковно-общественных движений происходил на разных уровнях: возникали не только, например, приходские и межприходские братства , но и союзы братств и приходов , координировавшие их деятельность как правило в пределах города или епархии. ...
Наиболее крупным и достаточно хорошо описанным среди подобных объединений было в Петрограде, возникшее в 1918 г. и в тех или иных формах просуществовавшее до начала 1930-х гг. Оно начало свою деятельность с защиты петроградской Лавры от посягательств со стороны новой власти, но вскоре распространило свою деятельность на церковное образование, на работу с детьми и неблагополучными слоями городского населения, на благотворительную деятельность.
В рамках действовало несколько богословских кружков, и внутри него сформировались даже две тайных монашеских общины. В Москве в начале 1918 г. по инициативе священноисповедника Романа Медведя возникло Свято-Алексеевское братство, ставившее своей задачей подготовку «проповедников из числа мирян» для защиты «веры и церковных святынь». Было и множество других (в одном Петрограде к началу 1920-х гг. их было около 20-ти) в самых разных уголках страны, большинство из которых мы знаем только по именам.
Деятельность этих объединений поражает своей многосторонностью : просвещение, благотворительность, сохранение аскетической традиции (монашеские общины). Заметной чертой этого движения был не чисто мирянский (хотя именно миряне составляли большинство членов и активных деятелей братств), а именно церковный его характер , поскольку основными руководителями, вдохновителями их были представители как белого, так и монашествующего духовенства.
Многие церковно-общественные объединения поддерживали тесный контакт с иерархией и крупными духовными центрами, не только Александро-Невской лаврой, но и, например, с Ново-Иерусалимским Воскресенским монастырем, со старцами Свято-Смоленской Зосимовой пустыни и др.
Представляется, что упомянутые церковно-общественные объединения демонстрируют новый характер сочетания индивидуализма и общинности . Их рост имел место, прежде всего, в крупных городах, т.е. вне связи с традиционной сельской общинной средой, которая была одновременно и приходской средой, а ведь именно сельская община была тогда основной «социальной базой» Российской Церкви.
Здесь же церковно-общественные движения успешно и очень интенсивно осваивали новую социальную среду . И происходило это — напомним - именно в ответ на начавшиеся гонения. Церковно-общественные движения рубежа 1910-1920-х гг. были зародышем новой приходской жизни , которому не суждено было развиться из-за репрессий.
Опыт жизни новомучеников в плане церковно-общественного устроения — это опыт самопожертвования ради защиты церковного достояния, опыт самой широкой взаимопомощи (и материальной, и интеллектуальной, выражавшейся в кружковом самообразовании и под.), опыт выхода этой помощи и за пределы своих общин (в просвещении и в работе с незащищенными социальными группами).
4. Практики повседневной жизни
Именно изучение жизненных практик поможет нам ответить на вопросы: что именно делалось для сохранения церковной жизни , что считалось в свете этого особенно важным, а что менее?
Упомяну только те практики, мотивация которых достаточно изучена.
На примере нескольких монашеских и смешанных (состоявших из монахов и мирян) общин (причем, как верных священноначалию Российской Церкви, так и умеренно оппозиционных) мы можем выделить следующие поведенческие стратегии. Прежде всего следует упомянуть бытовую маскировку собственного монашества или даже церковности.
Она могла включать самые разнообразные компоненты: от избегания каких-то особенностей в одежде (всего, что указывало бы на монашество, черных платков, слишком длинных юбок и под.) до целенаправленного умолчания обо всем, что могло бы указывать на церковность, или избегания крестного знамения в публичных местах.
Еще одним важным моментом было отношение к светской (советской) работе . В рамках этой поведенческой парадигмы наставники требовали от монашествующих или мирян исключительного тщательного, добросовестного отношения к своей работе. Мотивом такого отношения были или собственно христианская добросовестность, или же восприятие советской работы как монастырского послушания (для монахов), т.е. как работы, исполняемой для Бога и для своей монашеской общины.
Так, например, один из духовных руководителей 1930-х гг., ныне прославленный как новомученик, советовал своим ученикам избегать работы на фабриках или крупных предприятиях, поскольку тамошняя атмосфера могла вредить духовному настрою его подопечных.
Христиане не могли быть членами коммунистической партии или комсомола, что ограничивало их шансы на успешную карьеру. Но от этого их собственная позиция в отношении социальной среды не менялась. Сохранить духовную жизнь, жизнь во Христе можно было лишь продолжая жить и в условиях, никак для нее не предназначенных. Отмеченные стратегии повседневного поведения работали на достижение этой сверхзадачи.
Среда советского города имела слишком мало общего с традиционным православно-бытовым укладом, столь характерным для дореволюционной России. Однако это, как мы видели, не отпугивало новомучеников. Они входили в эту бесхристианскую и бесцерковную среду как в «пещь огнем горящую» и продолжали оставаться в ней христианами, преображая ее изнутри .
Формы жизни отступали на второй план, и вспоминалось, что христианство может оставаться живым и действенным в любых формах .
В этом еще один аспект подвига новомучеников, показывающий, что ими остро переживалась универсальность Благой Вести. Русскую Церковь много уличали в приверженности к национальным формам христианства, но опыт новомучеников и исповедников Российских показывает, что для них предельно актуальной стала именно универсальность христианства .
Такая жизненная позиция может быть образцом для сегодняшних христиан, путь новомучеников может быть нашим путем.
5. Интеллектуальное наследие новомучеников
Главный источник здесь — церковный самиздат , который исключительно мало изучен. Отметим его многообразие: тематический диапазон церковного самиздата варьируется от аскетических сборников до апологетических сочинений и работ по пастырской психологии. Говорить обо всех этих сочинениях не представляется возможным, поэтому остановлюсь только на одном таком памятнике.
Заметное место среди наследия церковного самиздата советской эпохи занимает книга прот. Глеба Каледы «Домашняя Церковь », которая как цельный текст появилась в 1970-е гг.
«Домашняя церковь» по сути — это первая книга по семейной аскетике , то есть по духовной жизни в браке в русской православной традиции.
Традиционно православная аскетическая письменность носила монашеский характер, поскольку подавляющее большинство авторов шло иноческим путем и интересовалось прежде всего законами и правилами духовной жизни монашествующего подвижника.
Важные специфические вопросы духовной жизни в браке или вовсе выпадали из поля зрения аскетических писателей, или освещались недостаточно, вскользь, иногда — исключительно с монашеских позиций.
В книге же «Домашняя церковь» ее автор рассмотрел с точки зрения их духовного роста самые разные аспекты именно семейной жизни православных христиан.
При этом эта книга не была ни сборником цитат из святых Отцов или духовных писателей, ни научно-богословской работой, с рационально-выстроенной системой аргументации. Это было выражение глубокогоопыта автора — главы семьи, педагога, священника, опыта, безусловно, личного, но укорененного в церковном Предании, выверенного им.
В этом смысле «Домашняя церковь» находится в русле православной аскетической письменности, лучшие образцы которой и являются выражением духовного опыта их создателей, опыта встречи с Богом и жизни в Церкви. Можно сказать, что книга отца Глеба — это выражение опыта встречи с Богом в домашней церкви — в семье.
Хочется отметить одну важную черту этого произведения. Его автор исключительное значение придает домашнему христианскому воспитанию и образованию , передаче от родителей к детям своих ценностей и знаний о своей вере, которую он именует не иначе как домашним апостолатом .
К такому апостольскому служению для своих близких, как пишет автор, призваны все имеющие семью и детей . При этом им были тщательно разработаны вопросы, связанные с домашним воспитанием: его принципы, стадии, содержание, методы, проблема сочетания с общим образованием.
Все это вобрало опыт самого автора, который уже в 1960-е гг. еще будучи мирянином вел у себя дома христианские образовательные занятия с детьми, участниками которых были его дети и дети его близких. Но кроме этого — и опыт многих домашних кружков — детских, молодежных и взрослых — довоенного и послевоенного времени.
Для этого опыта было характерно исключительно бережное отношение к повседневной жизни, окружавшей верующего, к семье и ее органичному — несмотря ни на что — развитию. А высокая оценка домашнего христианского воспитания как домашнего апостолата показывает, что старшие современники автора «Домашней Церкви» и он сам осознавали семью как поле, на котором скромные повседневные усилия верующих родителей могли победить всю мощь бездушной государственной машины .
6. Выводы
Опыт новомучеников свидетельствует о жизни во Христе. Она осознавалась как главная, непреходящая ценность, ради сохранения которой стоит жертвовать многим.
Она создавала новые формы церковных объединений, реализовавших себя в христианской взаимопомощи и в выходе этой помощи за пределы общин.
Она вопреки всему входила в современную им культуру, свидетельствуя об универсальности христианства.
Она была тем сокровищем, что только и нужно было передавать своим детям через «домашний апостолат».
Думается, что подобная аксиология поколения мучеников и исповедников Российских и есть их главное завещание нам , требующее нашего всемерного внимания и осмысления.
СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
по проведению занятий, посвященных
освещению подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской
в образовательных организациях общего
и дополнительного образования
2016
Пояснительная записка
Настоящие методические рекомендации разработаны Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом и православных организаций дополнительного образования, для государственных и муниципальных образовательных организаций.
Для образовательных организаций с религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и исповедники Церкви Русской» , интегрированного в учебную дисциплину «Основы православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»).
Для государственных и муниципальных образовательных организаций данный курс рекомендуется для духовно-нравственного направления во внеурочной деятельности. Встраивание этого модуля в образовательный процесс образовательных организаций общего образования и в систему дополнительного образования продиктовано желанием сфокусировать внимание обучающихся на подвиге соотечественников, пострадавших за веру Христову и верность Церкви в первой половине ХХ века, с целью формирования целостного представления об их подвиге народа России в контексте истории Отечества.
Учебный модуль «Новомученики и исповедники» выстроен с учетом принципов хронологии и проблематики, а также принципа объективности.
Изучение модуля может проводиться как в традиционной урочной форме, так и с использованием различных творческих форм, выездных занятий в традициях музейной педагогики, паломнических поездок. По завершении изучения курса рекомендуется защита творческих работ: рефератов, докладов, эссе, сочинений, рассказов, дневников, презентаций, альбомов, мини-архивов и др., для школьников старшего возраста возможно проведение научно-практической конференции, семинара, защиты презентаций, выставки творческих работ (защита экспонатов) и др.
Сохранению памяти о новомучениках и исповедниках и популяризации их наследия в значительной мере способствуют выездные занятия в музеях, местах памяти новомучеников (Бутовский полигон и др.), встречи с родственниками, духовными чадами, с учеными и исследователями, которые собирают материалы, свидетельствующие о подвиге новомучеников и исповедников, авторами книг и других публикаций об их жизни, участие в различных просветительских мероприятиях: тематических книжных выставках, конференциях и семинарах, просмотрах фильмов.
ЦельЦелью освоения учебного модуля «Новомученики и исповедники Церкви Русской» является формирование целостного представления о значении и содержании подвига новомучеников в истории России и Русской Православной Церкви.
Задачи
Достижению обозначенных целей должны способствовать следующие задачи:
- дать объективные, исторически правдивые представления о причинах и истоках гонений на Церковь (духовенство и верующих мирян) в первой половине XX века;
- раскрыть особенности церковно-государственных отношений на канонической территории Русской Православной Церкви на протяжении XX века (1917–1991 гг.);
- дать представление о сути христианского подвижничества и мученичества ради Христа, христианских духовных и нравственных ценностях;
- дать представление об основных событиях XX века, связанных с гонениями на Церковь (общая хронология);
- определить масштаб утрат (потерь) Церкви за период гонений (обзорно);
- описать социальный портрет новомучеников (обзорно), их стояние в вере в разных ситуациях исповедничества;
- раскрыть значение подвига новомучеников и исповедников для формирования личности обучающихся, современной молодежи.
Место модуля в образовательном процессе
Для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом и православных организаций дополнительного образования учебный модуль «Новомученики и исповедники» рекомендуется сделать составной частью рабочей программы дисциплины «Основы православной веры» (обязательный предмет Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего общего образования для образовательных организаций в Российской Федерации, утвержденного Священным Синодом 27 июля 2011 года) в рамках курса «История Русской Православной Церкви».
Для муниципальных и государственных школ данный модуль рекомендуется в качестве отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры.
Объем
Для модуля «Новомученики и исповедники Церкви Русской» как части рабочей программы дисциплины «Основы православной веры» рекомендуется минимальный объем 8 учебных часов (для основной и/или старшей школы). По возможности объем может быть увеличен. То же относится к муниципальным и государственным школам в рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности.
Тематическое содержание модуля
Предлагается цикл из восьми занятий.
|
Название занятия |
Рассматриваемые темы |
Возможная форма занятия |
Нравственное понятие |
|
|
Места памяти |
Места памяти пострадавших в годы гонений. Бутовский полигон. Общая хронология гонений на Русскую Православную Церковь (основные периоды). Региональные места памяти. |
Занятие у карты «Места памяти новомучеников» или выездное занятие в музее или на месте подвига новомучеников, занятие-паломничество, занятие – путешествие во времени |
Понятие о христианском мученичестве как сострадании Христу ради любви к Нему и вечной жизни в Царствии Небесном |
|
|
Патриарх-исповедник |
Поместный Собор 1917–1918 гг. и восстановление Патриаршества. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, исповедник. Аполитичность Церкви. Борьба против обновленчества. |
занятие-исследование, занятие – исторический портрет, занятие – час подлинника (документальные кадры, фотографии, демонстрация кадров кинохроники, слайдов, аудиозаписи) |
О служении, о выборе |
|
|
Царственные страстотерпцы и с ними пострадавшие |
Первые пострадавшие за веру. Царственные страстотерпцы и их верные слуги. Преподобномученица Елисавета и с ней пострадавшие |
Занятие-исследование, занятие – исторический портрет, занятие – час подлинника (документальные кадры, фотографии, демонстрация кадров кинохроники, слайдов, аудиозаписи), занятие – работа в архиве (дневники, письма, воспоминания, стихи, рисунки) занятие – работа с музейными предметами |
О вере, верности, любви |
|
|
Архиереи-мученики |
Икона «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской». Клейма. Архиереи-мученики. Церковная иерархия. Священномученик Владимир Киевский. Региональный компонент |
Занятие перед иконой, занятие-исследование, занятие – работа с документами, занятие – экскурсия-исследование, занятие – час подлинника, занятие-открытие |
Ответственность за Церковь и паству |
|
|
«Наше оружие – крест и молитва» |
Антирелигиозная деятельность советского правительства (Декрет об отделении Церкви от государства и школы от церкви», изъятие церковных ценностей, кампания по вскрытию мощей) и реакция на нее народа России (крестные ходы, молебны, помощь пострадавшим, сохранение святынь и т.д.). Священномученик Вениамин Петроградский. Мученица Татиана Гримблит. Региональный компонент |
Занятие-диспут, занятие – круглый стол (противопоставление, контраст) (использовать газеты, документы, декларации и т.д.); занятие – имитация деятельности (репортаж, суд и др.); занятие – исторический портрет; занятие – час подлинника |
Любовь-ненависть; вера – неверие; верность – предательство мужество – трусость; надежда – отчаяние |
|
|
Стояние в вере. Явная и сокровенная жизнь Церкви. Сколько осталось храмов, архиереев, к началу войны, о тайном монашестве, о старцах и их наставлениях, в т.ч. из заключения, о воспитании молодежи. Региональный компонент |
Занятие – работа c документами (Письма из заключения. Письма духовных отцов духовным чадам); Занятие-исследование, занятие – час подлинника, занятие – работа с музейными предметами; занятие – работа в архиве |
Стояние в вере; старчество; духовное наставление |
||
|
Исповедники |
Церковь в годы Великой отечественной войны и в послевоенный период. Исповедничество. Святитель Лука Крымский. Региональный компонент |
Занятие-семинар, конференция (представление творческого отчета в форме сочинения, рассказа, эссе). Детские творческие работы о пострадавших за веру земляках, членах семьи и т.д. (проекты). Занятие – исторический портрет, заняти-исследование |
Исповедники, Исповедниче-ство, подвижничество. |
|
|
Собор новомучени - ков и исповедников Церкви Русской |
Возрождение церковной жизни и прославление новомучеников. О работе в архивах, составлении житий, обретении мощей. Икона «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской» – небесная литургия. Региональный компонент |
Занятие – работа в архиве (виртуального), церковного музея, храма. Примеры, свидетельствующие о святости новомучеников. Обращение к святыне. Итоговое занятие-конференция |
Возрождение России и Церкви молитвами новомучеников. |
Примерный план проведения занятия:
|
Введение в тему (для первого занятия) или краткое напоминание о предыдущей теме |
||
|
Чтение художественного отрывка или стихотворения по теме занятия |
||
|
Объяснение исторического контекста, как общецерковного, так и регионального, если возможно |
||
|
Объяснение нравственного и религиозного понятия (святость, житие, лики святых, подвижничество, служение, вера, добродетель, грех, страдания за Христа как сострадание Христу, православное богослужение, таинства и др.) |
||
|
Жития святых и их христианский подвиг (кратко) |
||
|
Закрепление темы (краткий опрос, тест и т.д.) |
||
|
Заявка на следующую тему, задание для самостоятельной подготовки, творческое задание |
||
· Святитель Тихон (Белавин), Патриарх Московский и всея России, исповедник
· Страстотерпец император Николай II и его семья
· Преподобномученицы великая княгиня Елизавета Феодоровна и инокиня Варвара
· Священномученик Владимир (Богоявленский)
· Священномученик Гермоген (Долганов)
· Священномученик Иларион (Троицкий)
· Священномученик Фаддей (Успенский)
· Священномученик Кирилл (Смирнов)
· Священномученик Петр (Полянский)
· Священномученик Вениамин (Казанский)
· Священномученик Серафим (Чичагов)
· Священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий)
· Священноисповедник Афанасий (Сахаров)
· Священномученик Иоанн Кочуров
· Страстотерпец праведный Евгений Боткин
· Преподобномученик Кронид (Любимов)
· Преподобномученик Игнатий (Лебедев)
· Мученица Татиана Гримблит
·СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ, ОСОБО ПОЧИТАЕМЫЕ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
А) Литература
1.Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг.//Сост. М. Е. Губонин. М.: Изд-во ПСТБИ, 1994.
2.Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–1925 гг.: в 2 кн./ Подг. издания Н. Н. Покровского и С. Г. Петрова. Новосибирск: Сибирский хронограф; М.: РОССПЭН, 1997–1998.
3.Беглов А. Л. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2008.
4.Вениамин (Федченков), митр . На рубеже двух эпох. М., 1994.
5.Волков О. В . Погружение во тьму. М., 1989.
6. Воспоминания соловецких узников / Отв. ред. свящ. В.Умнягин . Соловки: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, 2013–2015.
7. Все вы в сердце моем: Жизнеописание и духовное наследие священномученика Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского / Сост. И.Г. Меньковой . 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007.
8. Галкин А.К., Бовкало А.А. Избранник Божий и народа: Жизнеописание священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. СПб.: «Блокадный храм», 2006.
9. Головкова Л.А., Хайлова О.И. Пострадавшие за веру и Церковь Христову: 1917–1937 / Отв. ред. прот. В.Воробьев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.
10. Голубцов С. А., протодиак . Московская духовная академия в начале ХХ века. Профессура и сотрудники. Основные биографические сведения. М.: Издательство «Мартис», 1999.
11. Дамаскин (Орловский), игум. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. (Январь–июль). Тверь: Булат, 2005–2016.
12. Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 7 книгах. Тверь: Булат, 1992–2002.
13. Допрос Патриарха / Сост. А. Нежный . М.: Грааль, 1997.
14. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии / Под общей редакцией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. [В 9 кн.]. Тверь, Булат, 2002–2006.
15. Журавский А. В . Во имя правды и достоинства Церкви. Жизнеописание и труды священномученика Кирилла Казанского в контексте исторических событий и церковных разделений ХХ века. М., 2004.
16. За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917–1956. Книга первая. М.: ПСТГУ, 2015.
17. Игнатия, монахиня. Старчество в годы гонений. Преподобномученик Игнатий (Лебедев) и его духовная семья. М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. (Б-ка журнала «Альфа и Омега»).
18. Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики. М.: ПСТГУ, 2006.
19. Канонизация святых в ХХ веке. М.: Комиссия Священного Синода РПЦ по канонизации святых, Изд-во Сретенского монастыря, 1999.
20. Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и советское государство (1917–1922). М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2005.
21. Кифа – Патриарший Местоблюститель священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1862–1937) / Отв. ред. прот. В. Воробьев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.
22. Книга памяти «Бутовский полигон». М., 2004.
23. Козаржевский А. Ч. Церковноприходская жизнь Москвы 1920–1930 гг. Воспоминания прихожанина // ЖМП. 1992. № 11–12; Журнал «Москва». 1996. № 3.
24. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории Русской Церковной смуты. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1996.
25. Лобанов В. В. Патриарх Тихон и советская власть (1917–1925 гг.). М.: НП ИД «Русская панорама», 2008.
26. Мазырин А., свящ. Смысл и значение подвига новомучеников и исповедников Российских [Электронный ресурс] // Сайт ПСТГУ. URL: http://pstgu.ru/news/life/science/2011/05/10/29723/ (дата обращения 9.12.2015).
27. Мазырин Александр, иерей . Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920–1930-х годах. М.: ПСТГУ, 2006.
28. Митрофанов Г., прот . История Русской Православной Церкви: 1900–1927. СПб.: «Сатис», 2002.
29. Молитва всех вас спасет: Материалы к жизнеописанию святителя Афанасия, епископа Ковровского / Сост., предисл. и примеч. О. В. Косик . М.: Изд-во ПСТБИ, 2000.
30. Мраморнов А. И . Церковная и общественно-политическая деятельность епископа Гермогена (Долганова, 1858–1918). Саратов: Научная книга, 2006.
31. Неколебимый камень Церкви: Патриарший Местоблюститель митрополит Крутицкий Петр (Полянский) священномученик, на фоне русской церковной истории XX века. СПб.: Наука, 1998.
32. Польский М., прот. Новые мученики российские. В 2 т. М., 1993.
33. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Республика, 1995.
34. Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917–1937. М.: Издательство ПСТГУ, 2013.
35. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2000.
36. «Приспело время подвига…»: Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. о начале гонений на Церковь/сост., автор статьи Кривошеева Н. А. . М.: ПСТГУ, 2012.
37. Ради мира церковного: Жизненный путь и архипастырское служение святителя Агафангела, митрополита Ярославского, исповедника / Сост. Менькова И. Г. . В 2 книгах. М.: ПСТГУ, 2005–2006.
38. Русская Православная Церковь 988–1988: Очерки истории 1917–1988 гг. Вып. 2. М.: Изд-во МП, 1988.
39. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. М.: ББИ, 1996.
40. Русская Православная Церковь. ХХ век/БегловА. Л., ВасильеваО. Ю., ЖуравскийА. В. и др. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008.
41. Сафонов Д., иерей . Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время». М., «Покров», 2013.
42. Сафонов Д., свящ . Жизнь и архиерейское служение святителя Илариона [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московской духовной академии. URL: http://www.mpda.ru/site_pub/116836.html (дата обращения 9.12.2015).
43. Следственное дело Патриарха Тихона. Сборник документов Центрального архива ФСБ РФ. М.: ПСТБИ, 2000.
44. Страж Дома Господня. Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский)/ Автор-составитель Сергей Фомин . М.: Правило веры, 2003.
45. Страсти по мощам: из истории гонений на останки святых в советское время. СПб.: Общество свт. Василия Великого, 1998.
46. Феодосий (Алмазов), архим . Мои воспоминания: Записки Соловецкого узника. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1995.
47. Филиппов Б.А . Путеводитель по истории России 1917–1991: Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010.
48. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007.
49. Деяния о канонизации. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 13–16 августа 2000 г.: Материалы. М., 2001.
Б) Электронные ресурсы
1. Православная Энциклопедия. Электронная версия: http://www.pravenc.ru/
2. База данных (ПСТГУ) «За Христа пострадавшие»: http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans
3. Интернет-проект Соловецкого монастыря «Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке»: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
4. Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»: http://www.fond.ru/ .
ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЯ
ЗАНЯТИЕ 1.
У КАРТЫ «МЕСТА ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ»
Цель занятия: актуализировать историческую память обучающихся, дать им возможность соприкоснуться с живым свидетельством подвига новомучеников.
Задачи занятия:
– ввести обучающихся в тему;
– дать первичные представления о причинах и истоках гонений на Церковь в первой половине XX века;
– дать панораму основных событий XXвека, связанных с гонениями на Церковь (общая хронология);
– определить масштаб утрат (потерь) Церкви за период гонений (обзорно);
– описать социальный портрет новомучеников (обзорно).
Фома занятия: урок у карты или выездной урок на месте подвига новомучеников.
Наглядность: икона «Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской», карта России с указанием мест подвигов новомучеников, фотографии новомучеников, фрагменты документальных кадров, плакаты, картины, развороты книг о новомучениках, предметы, письма и др.
ИКТ-технологии: презентации.
Основные понятия: святость, святые, новомученики, подвиг (страдания за Христа как проявление любви ко Христу, Крест Христов, страдания за веру).
План занятия:
1.Введение в тему.
2. Объяснение нового материала.
3. Работа с основными понятиями.
4. Избранные жития новомучеников.
5. Закрепление материала.
Ход занятия:
Введение в тему. Учитель кратко рассказывает о том, кто такие новомученики. XXвек – век серьезных испытаний для России. Еще никогда в своей истории Русская Церковь не подвергалась таким гонениям, которые выпали не ее долю в прошлом столетии: были расстреляны, замучены, сосланы в ссылку миллионы священнослужителей, монахов и мирян, разрушались храмы, уничтожались иконы, церковная утварь, подвергались осквернению святые места, мощи святых и т.д.
Читается фрагмент из художественного произведения (одного или нескольких, образцы прилагаются). Можно использовать музыкальный материал, соответствующий теме.
Работа у карты (групповая или индивидуальная, можно смешанный вариант). Обучающиеся рассказывают о памятных местах подвигов новомучеников – Бутовском полигоне (пример общецерковного значения) и региональных мест памяти (показ наглядного материала: фотографий местности, фотографий участников событий, читаются фрагменты из воспоминаний, писем, документальных источников и др.).
Работа с основными понятиями. Работу можно организовать по группам или индивидуально. Работа со словарями, православной энциклопедией. Учитель может приготовить карточки с определением основных понятий заранее и раздать обучающимся. Далее дети раскрывают свое понимание ключевых понятий через совместное обсуждение. Необходимо пояснить детям, что каждый их ответ должен быть обоснован.
Читаетсяфрагмент из жития новомученика(ов) – как расстрелянных на Бутовском полигоне, например, священномученика Серафима (Чичагова) (пример общецерковного значения), так и пострадавших и/или погребенных в местах памяти регионального значения. Основное внимание обращается на христианский подвиг верности Христу и его Церкви, а также на характеристику личностных нравственных качеств святого, которые помогли следовать заповедям Христовым в условиях тяжелейших гонений на Церковь.
Закрепление материала. Подведение итогов занятия можно провести через фронтальный опрос, тест, взаимный вопрос-ответ обучающихся, а также творческие формы – написание мини-рассказа, мини-эссе, краткой аннотации к теме урока, краткой статьи для школьной газеты, письма родителям (близким родственникам, другу, незнакомому человеку) и др.
Домашнее творческое задание. Можно использовать те же творческие формы, что и при закреплении материала.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕРЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
В. Никофоров-Волгин
ЗАУТРЕНЯ СВЯТИТЕЛЕЙ
Под Новый год
Белые от снежных хлопьев идут вечерними просторными полями Никола Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский.
Стелется поземка, звенит от мороза сугробное поле. Завевает вьюжина. Мороз леденит одинокую снежную землю.
Никола Угодник в старом овчинном тулупе, в больших дырявых валенках. За плечами котомка, в руках посох.
Сергий Радонежский в монашеской рясе. На голове скуфейка, белая от снега, на ногах лапти.
Серафим Саровский в белой ватной свитке идет, сгорбившись, в русских сапогах, опираясь на палочку…
Развеваются от ветра седые бороды. Снег глаза слепит. Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме…
– Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, – говорит Серафим.
– Не заблудимся, отцы! – добро отвечает Никола. – Я все дороги русские знаю. Скоро дойдем до леса Китежского, а там в церковке Господь сподобит и заутреню отслужить…
– Резвый угодник! – тихо улыбаясь, говорит Сергий, придерживая его за рукав. – Старательный! Сам из чужих краев, а возлюбил землю русскую превыше всех. За что, Никола, полюбил народ наш, грехами затемненный, ходишь по дорогам его скорбным и молишься за него неустанно?
– За что полюбил? – отвечает Никола, глядя в очи Сергия. – Дитя она – Русь!... Цвет тихий, благоуханный… Кроткая дума Господня…дитя Его любимое… Неразумное, но любимое. А кто не возлюбит дитя, кто не умилится цветиками? Русь – это кроткая дума Господня.
– Хорошо ты сказал Никола, про Русь, – тихо прошептал Серафим. – На колени, радости мои, стать хочется перед нею и молиться, как честному образу!
– А как же, отцы святые, – робко спросил Сергий, – годы крови 1917-й, 1918-й и 1919-й? Почто русский народ кровью себя обагрил?
– Покается! – убежденно ответил Никола Угодник.
– Спасется! – твердо сказал Серафим.
-–Будем молиться! – прошептал Сергий.
Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки.
Затеплили перед темными образами свечи и стали служить заутреню.
За стенами церкви гудел снежный китежский лес. Пела вьюга.
Молились святители русской земли в заброшенной лесной церковке о Руси – любви Спасовой, кроткой думе Господней.
А после заутрени вышли из церковки три заступника на паперть и благословили на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.
C. Бехтеев
СВЯТАЯ НОЧЬ
Посвящено царственным страстотерпцам – в дни заточения
Слава в вышних Богу и на земли мир
В человецех благоволение!
Ночь и мороз на дворе;
Ярко созвездья горят;
В зимнем седом серебре
Молча деревья стоят.
Дивен их снежный убор:
Искр переливчатый рой
Радует трепетный взор
Дивной стоцветной игрой.
Блещут в Тобольске огни,
В мраке сверкая, дрожат;
Здесь в заточеньи Они
Скорбью Монаршей скорбят.
Здесь, далеко от людей,
Лживых и рабских сердец,
В страхе за милых Детей,
Спит их Державный Отец.
Искрятся звезды, горя,
К окнам изгнанников льнут,
Смотрят на ложе Царя,
Смотрят и тихо поют:
«Спи, Страстотерпец Святой
С кротким Семейством Своим;
Ярким венцом над Тобой
Мы величаво горим.
Спи, покоряясь судьбе,
Царь побежденной страны;
Ночь да откроет Тебе
Вещие, светлые сны.
Спи без тревог на челе
В тихую ночь Рождества:
Мы возвещаем земле
Дни Твоего торжества.
Светочи ангельских слез
Льются, о правде скорбя;
Кроткий Младенец Христос
Сам охраняет Тебя!»
Е. Ерофеева
ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ В СЫЛКЕ
(отрывок)
В день Рождества Христова, 25 декабря 1917 года, за богослужением в церкви, битком наполненной народом, было неожиданно для всех провозглашено многолетие царской семье, за что священник был немедленно удален из Тобольска.
Новый батюшка, совершая водосвятие в доме Заключенных, не мог удержаться и, низко поклонившись, широким крестом осенил Отрока, а потом поцеловал Его в голову, чем вызвал слезы почти у всех свидетелей этой сцены.
Тобольские холода давали себя чувствовать и отразились на быте семьи. Комнаты царевен стали ледниками. Царевич, весь укутанный, должен был ложиться спать в кровать и долго не мог согреться, лежа в промерзлой постели.
Наступил 1918-й год - последний год жизни Семьи, - и при совершении новогоднего молебна было разрешено помолиться в церкви, так же, как и в Крещение Господне, но с условием: снять погоны. Государь не мог заставить себя сразу подчиниться приказу и, накинув кавказскую бурку, закрыл ею погоны, а Наследник спрятал свои нашивки под башлык.
На домашних богослужениях отсутствовали певчие, и императрица вместе с дочерьми пела за богослужением. Громадное впечатление произвело это пение на караулящих…
В. Никифоров – Волгин
ДОРОЖНЫЙ ПОСОХ
(отрывок)
Наступил рождественский сочельник. Весь он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется грезить, что ничего страшного на Руси не произошло. Это только нам приснилось, только попритчилось… Все мы сегодня, как встарь, запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш» и во всех домах затеплим лампады…
Но недолго пришлось мне грезить. Мимо окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных, юношу в гимназической шинели, девушку в одном платьице, простоволосую. Седого сгорбленного директора подгоняли ружейными прикладами. Он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях.
Сердце мое заметалось. Я вскрикнул и упал.
…Очнулся я к самому вечеру. Савва Григорьевич долго приводил меня в чувство.
Как же ты, батюшка, служить сегодня будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен! Что это с тобою произошло?
Я ничего не сказал. Помолился, попил святой воды, частицу артоса вкусил и стал совсем здоровым.
В ночь на третье января к нам постучали.
Беда, батюшка! - воскликнули вошедшие. - Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное: хотят чудотворную икону Божией Матери на площадь вынести и там расстрелять!
Рассказывают и плачут.
Меня охватила ретивость. По-командирски спрашиваю:
Сколько вас тут человек?
Так… Ничего не боитесь?
На какую угодно муку пойдем! - отвечают гулом.
Так слушайте же меня, чадца моя! - говорю им шепотом. - Чудотворную икону мы должны спасти! Не отдадим ее на поругание!
Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долото и молоток. Перекрестились мы и пошли…
На наше счастье, Владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно земля душу свою Богу отдала. К собору идем поодиночке. Я вдоль заборов пробираюсь. Наши уже в соборной ограде. Тут же и лошадка приготовлена. Нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега. Оглянулись. Перекрестились. Один из наших по тяжелому замку молотом звякнул - замок распался. Прислушались. Только снег да наше дыхание. Мы вошли в гулкий замороженный собор. Из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери. Положили ее в сани, прикрыли соломой и, благословясь, тронулись к нашей пещерной церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей правила. Ехали в тишине. Никого не повстречали. Снег заметал наши следы.
К пещере несли Ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал:
«Не так ли и предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места, во дни татарского нашествия на Русь?».
Н. Дерзновенко
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Москва снегами запорошена,
Стоит красавица, Снегурочка,
И шаль пуховая наброшена
На парки, скверы, переулочки.
Стоят соборы золочёные,
Что сотни лет красою славятся,
Крестами в небо устремленные,
Стоят веками и не старятся.
Какая праздничная ночь!
Звонят, звонят колокола...
Какая праздничная ночь!
Сияют купола...
Какая праздничная ночь!
Звонят, звонят колокола...
Какая сказочная ночь!
Сияют купола...
Звучат над ними песнопения,
Огонь над свечками колышется...
Мне детства вспомнились мгновения –
Напевы Родины в них слышатся.
С такими русскими молитвами,
Что над Москвою поднимаются,
Родятся, крестятся и с милыми
На жизнь счастливую венчаются.
Какая праздничная ночь!
Звонят, звонят колокола...
Какая праздничная ночь!
Сияют купола...
Какая сказочная ночь!
Звонят, звонят колокола...
Какая праздничная ночь!
Сияют купола...
Москва торжественно великая
Стоит притихшая, печальная.
Звучат молитвы перед ликами,
Как гимн, как песня величальная.
Несутся звоны колокольные,
По всей Руси, России-матушке:
Живи святая, непокорная,
Борись страна, молитесь батюшки!
Какая праздничная ночь!
Звонят, звонят колокола...
Какая праздничная ночь!
Сияют купола...
Какая праздничная ночь!
Звонят, звонят колокола...
Какая праздничная ночь!
Сияют купола...
И. Шмелев
РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ
Рассказ делового человека
Вот, о Рождестве мы заговорили... А не видавшие прежней России и понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светилось-золотилось куполом-исполином в ночи морозной – Храм Христа Спасителя. Рождество-то Христово – его праздник. На копейку со всей России воздвигался Храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рождества, 25 декабря 1812 года, не осталось в ее пределах ни одного из врагов ее. И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, отовсюду видный, с какой бы стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его... – разве о нем расскажешь! Где теперь это знамение русской народной силы?!.
Рождество в Москве чувствовалось задолго – веселой, деловой сутолокой.
А самое Рождество – в душе, тихим сияет светом.
Это оно повелевает: со всех вокзалов отходят праздничные составы с теплушками, по особенно низкому тарифу, чуть не грош верста, спальное место каждому. Сотни тысяч едут под Рождество в деревню, на все Святки, везут гостинцы в тугих мешках.
Млеком и медом течет великая русская река...
Вот и канун Рождества – Сочельник. В палево-дымном небе зеленовато-бледно проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских: они поют. Сердцем можно услышать, только: поют – и славят. Синий бархат затягивает небо, на нем – звездный, хрустальный свет. Где же Вифлеемская?.. Вот она: над Храмом Христа Спасителя. Золотой купол Исполина мерцает смутно. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его плавает над Москвой вечерней, рождественской. О, этот звон морозный... можно ли забыть его?!.. Звон-чудо, звон-виденье. Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные голоса Собора, ликуя, Всепобедно.
«С на-ми Бог!..»
Священной радостью, гордостью ликованья переполняются все сердца.
«Разумейте, язы-и-и-цы-ы...
и пок-ко-ряй – теся...
Я-ко... с на-а-а-а – ми Бог!»
Боже мой, плакать хочется... нет, не с нами. Нет Исполина-Храма... и Бог не с нами. Бог отошел от нас.
Не спорьте! Бог отошел. Мы каемся.
Звезды поют и славят. Светят пустому месту, испепеленному. Где оно, счастье наше?.. Бог поругаем не бывает. Не спорьте, я видел, знаю. Кротость и покаяние – да будут.
И срок придет:
Воздвигнет русский народ, искупивший грехи свои, новый чудесный Храм – Храм Христа и Спасителя, величественней и краше, и ближе сердцу... и на светлых стенах его, возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском грехе, о русском страдании и покаянии... о русском бездонном горе, о русском освобождении из тьмы... – святую правду. И снова тогда услышат пение звезд и благовест. И вскриком души свободной в вере и уповании воскричат: «С нами Бог!..»
Е. Ганецкий
ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ
Святая ночь! Плеяды звезд, мерцая,
Плывут в эфире голубом,
Бледнеет диск высот… Чу! Ангел рая
Лучистым шевельнул крылом.
И от святынь обители нетленной
Спешит к земле посол небес…
Но дольний мир заглох в борьбе бесправной:
Ответа нет на горний зов…
Лишь на Руси великой, православной –
Пасхальный зов колоколов.
Здесь ждут его… Душе простой, смиренной
Так внятен смысл его словес!
И он гласит во все концы Вселенной:
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
Страна родная! Бег войны кровавой
И на тебе оставил след…
Но духом ты крепка. С бессмертной славой
Да зреет лавр твоих побед!
Восстанешь ты в лучах весны бессмертной
Для возрождения чудес.
И он гласит во все концы Вселенной:
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
В. Никифоров-Волгин
В БЕРЕЗОВОМ ЛЕСУ
(Пасхальный этюд)
Б. Зайцеву
Вечерним березовым лесом идут дед Софрон и внучек Петька. Дед в тулупе. Сгорбленный. Бородка седенькая. Развевает ее весенний ветер.
Под ногами хрустит тонкий стеклянный ледок.
Позади деда внучек Петька.
Маленький. В тулупчике. На глаза лезет тятькин картуз. В руке красные веточки вербы. Пахнет верба ветром, снежным оврагом, весенним солнцем.
Идут, а над ними бирюзовые сумерки, вечернее солнце, гомон грачей, шелест берез.
Гудит нарождающаяся весенняя сила.
Чудится, что в лесных далях затаился белый монастырь, и в нем гудит величавый монастырский звон.
– Это лес звонит. Березы поют. Гудет незримый Господень колокол… Весна идет, – отвечает дед и слабым колеблющимся голосом, в тон белым березам, вечерним сумеркам, смутному весеннему гулу поёт с тихими монашескими переливами: – Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный…
Кто-то величавый, далекий, сокрытый в лесных глубинах подпевал деду Софрону.
Березы слушали.
– В церковь идем, дедушка?
– В церкву, зоренький, к Светлой заутрени…
– В какую церкву? К Спасу Златоризному… К Спасу Радостному…
– Да она сгорела, дедушка! Большевики летось подожгли. Нетути церкви. Кирпичи да головни одни.
– К Спасу Златоризному… К Спасу! – сурово твердит Софрон. – Восемь десятков туда ходил и до скончания живота моего не оставлю ее. Место там свято. Место благословенно. Там душа праотцев моих… Там жизнь моя, – и опять поет сумрачные страстные песни: – Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся…
– Чудной… – солидно ворчит Петька.
Вечерняя земля утихла.
От синих небес, лесных глубин, белых берез, подснежных цветов и от всей души – весенней земли шел незримый молитвенный шепот:
– Тише! Святая ночь!..
– Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет… – пел дед Софрон среди белых утихших берез.
Черной монашеской мантией опустилась ночь, когда дед с внуком подошли к развалинам Спасовой церкви и молча опустились на колени.
– Вот и пришли мы к Спасу Златоризному. Святую ночь встретить, – сквозь слезы шепчет дед. – Ни лампад, ни клира, ни Плащаницы украшенной, ни золотых риз, ни души христианской…
Только Господь, звезды, да березыньки…
Вынимает дед Софрон из котомочки свечу красного воска, ставит ее на место алтаря Господня и возжигает ее.
Горит она светлым звездным пламенем.
Софрон поет в скорбной радости:
– Христос воскресе из мертвых…
Слушали и молились Петька, небо, звезды, березыньки и светлая душа весенней земли.
Похристосовался Софроний с внуком, заплакал и сел на развалинах церковки.
– Восемь десятков березовым лесом ходил в эту церковь. На этом месте с тятенькой часто стоял и по его смерти место сие не покинул. Образ тут стоял Спаса Златоризного… Ликом радостный, улыбчивый… А здесь… алтарь. Поклонись, зоренький, месту сему…
От звезд, от берез, свечного огонька, от синих ночных далей шел молитвенный шепот:
– Тише. Святая ночь!
Софрон глядел на звезды и говорил нараспев, словно читал старую священную книгу:
– Отшептала, голуба душа, Русь дедова…
Отшуршала Русь лапотная, странная, богомольная… Быльем заросли тропинки в скиты заветные… Вечная память. Вечный покой.
Кресты поснимали. Церкви сожгли. Поборников веры умучили.
Потускнели главы голубые на церквах белых. Не зальются над полями вечерними трезвоны напевные…
Отзвонила Русь звонами утешными.
Не выйдет старичок спозаранок за околицу и не окстится истово за весь мир на восток алеющий.
Девушки не споют песен дедовых.
Опочила Русь богатырская, кондовая, краснощекая.
Вечная память. Вечный покой.
Не разбудит дед внука к заутрени, и не пошуршат они в скит далекий по снегу первопутному, по укачливой вьюжине, навстречу дальнему звону.
Не пройдут по дорогам бескрайним старцы с песнями «О рае всесветлом», «О Лазаре и Алексии Божьем человеке»…
Отпели старцы. Отшуршала Русь лапотная…
Отшептала Русь сказки прекрасные…
Вечная память. Вечный покой.
Глядел дед Софрон на звезды и плакал…
В. Бобринская
ПАСХА В ЛАГЕРЕ, 1931 год
Ветер тучи сорвал и развеял их прочь,
И пахнуло теплом от земли,
Когда встали они и в Пасхальную ночь
Из бараков на поле пришли.
В исхудалых руках – ни свечей, ни креста,
В телогрейках – не в ризах – стоят…
Облачением стала для них темнота,
А их души, как свечи, горят.
Но того торжества на всем лике земли
Ни один не услышал собор,
Когда десять епископов службу вели
И гремел из священников хор.
Когда снова и снова на страстный призыв
Им поля отвечали окрест:
«Он воистину с нами! Воистину – жив!» –
И сверкал искупительный Крест.
В. Никифоров-Волгин
ПАСХА НА РУБЕЖЕ РОССИИ
1934 год
Несколько лет тому назад я встретил Пасху в селе на берегу Чудского озера.
В Светлую ночь не спится. Я вышел на улицу. Так темно, что не видно граней земли и кажется: небо и земля одна темная синяя мгла, и только в белом Ильинском храме горели огни. И такая тишина, что слышно, как тает снег и шуршит лед, плывущий по озеру.
С того берега, где лежит Россия, дул тонкий предвесенний ветер.
Необычная близость русского берега наполняла душу странным чувством, от которого хотелось креститься на Россию, такую близкую, ощутимую и вместе с тем такую далекую и недоступную.
Где-то ударили в колокол.
Звон далекий, какой-то глубинный, словно звонили на дне озера.
Навстречу мне шел старик, опираясь на костыль. Я спросил его:
– Дедушка! Где звонят?
Старик насторожился, послушал и сказал:
–В России, браток, звонят. Пойдем поближе к озеру, там слышнее.
Долго мы стояли на берегу озера и слушали, как звонила Россия к пасхальной заутрене.
Нет таких слов, чтобы передать во всей полноте сложную гамму настроений, мыслей и чувств, волновавших мою душу, когда я стоял на берегу озера и слушал далекий пасхальный звон.
–Христос Воскресе, – шептал я далекому родному берегу и крестился на Русскую землю.
Монах Лазарь (В. Афанасьев)
СВЯТАЯ РУСЬ
Вот я за карандаш берусь
И Богу я молюсь притом,
Нарисовать хочу я Русь
На этом вот листе большом.
Святую Русь, которой след
Не смыт потоком грозных бед.
В чем Русь моя заключена?
Да в храмах молится она
И храмов этих не один
Был ею поднят из руин,
И были в посрамленье зла
Отлиты вновь колокола.
Вот это – отрок, сверстник мой,
Он, в золотистом стихаре,
С благоговейною душой
Прислуживает в алтаре.
Он пребывает в храме том
Как в небесах перед Христом.
Да, он один из тех, кто здесь
Евангельскую слышит весть,
Что здесь стоят к плечу плечо,
Молясь и каясь горячо,
Тех пожилых и молодых
Людей Руси – да, он из них.
Их Русь Святая шлет сюда, –
Деревни, сёла, города, –
Чтоб за покойных и живых
Шла в небеса молитва их,
Чтоб правдой Божией сильна
Душой воспрянула страна.
Да, бита Русь! Но побороть
Души ее не даст Господь,
Поскольку есть молитва в ней, –
А кто же Господа сильней?
И вот я Господу молюсь:
Спаси мою Святую Русь!
И. Шмелев
КРЕСТНЫЙ ХОД
(в сокращении)
В есной тишине залива, куда океан приходит в положенные сроки, думаю я о прошлом. И вот − бытие, живое, душа над тлением. Не безумное мертвое качанье, плескание бессчетным счетом, свинцовая даль, пустая, − а Дух ведущей − святое в человеке.
«… Иже везде сый и вся исполняяй…»
В звоне ли сосен чудится мне эта святая Песня, или это душа моя?.. Под благовест чужой церкви слышу я наши звоны, наши святые Песни.
«Царю Небесный… Утешителю, Душе Истины…»!
Небо родное, бледною синевой разлито, пухлые облачка на нем Свежесть первых осенних дней, тени прохладны, густы, но мягкое солнце греет. Астры в садах подолгу стоят в росе. Подсолнухи переросли заборы, головы их поникли. Рябины обвисли грузно, березы засквозили, и тихими вечерами слышно, как курлыкают журавли − на полдень.
Закрою глаза − и вижу.
Сталкиваясь, цепляясь, позванивая мягко, плывут и блещут тяжелые хоругви, святые знамена Церкви. Золото, серебро литое, темный, как вишни, бархат грузных шитьем окован. Идет не идет, − зыбится океан народа. Под золотыми крестами святого леса знамен церковных − гроздь цветов осенних: георгины, астры, − заботливо собранные росистым утром девичьими руками московки светлоглазой.
«Святый Боже, Святый Крепкий… Святый Безсмертный…»
Святое идет в цветах. Святое − в Песне.
Строго текут кремлевские. Подняли их соборы: Спас на Бору, Успенье, Благовещение, Архангелы… Темное золото литое, древнее серебро чернью покрыла копоть, сиянье скупо. Идут − мерцают. И вдруг − проснется и ослепит, из страшного далекой дали, − Темное Око взглянет. Благоволение или − гнев?
Старые храмы, новые, − все послали.
Подняты над землей Великие Иконы − древность. Спасов Великий Лик, темный-темный, черным закован золотом, Ярое Око − строго. Пречистая, Богоматерь-дева, в снежно-жемчужном платье, благостная, ясно взирает лаской.
«… Упование рода христианского,
И древний Корсунский Крест сияет хрустальным солнцем».
«… и благослови достояние Твое… Побе-э-ды-ы… на супротивныя да-а-руя…»
Взрывно гремит, победно несется к небу. Шумит океан народный, несметную силу чует: тысячелетие нес знамена!
«„… прииди и веселися в ны…»[
Льется святая Песня − душа над тлением.
И где все это?!..
Я вслушиваюсь в себя. Поют…? Сосны поют. В гуле вершинных игл слышится мне живое: поток и рокот.
Этот великий рокот, святой поток − меня захватили с детства. И до сегодня я с ними, в них. С радостными цветами и крестами, с соборным пеньем и колокольным гулом, с живою душой народа. Слышу его от детства − надземный рокот Крестного хода русского, шорох знамен священных.
За тысячи верст − все слышу: течет потоком.
Придет ли Великий День? В солнце и холодке осеннем, услышу ли запах травы замятой, горечь сырых подсолнухов, упавших в ходу с хоругвей, и этот церковно-народный воздух, который нигде не схватишь, − запах дегтя и можжевельника, теплого воска и кипариса, ситца и ладана, свежих цветов осенних, жаркой одежи русской, души и тлена, − исконный воздух Крестного хода русского, веками навеки слитый? Услышу ли гул надземный − русского моря-океана?..
Обрывки святого сна. Сияют они кусками, − разбитая Икона.
С далекой, чужой земли слышу я Крестный ход, − страстной, незримый. Изнемогая, течет и течет он морем к невидным еще стенам далекого Собора, где будет Праздник. Без звона идет и без хоругвей, и Песен святых неслышно, но невидимо Крест на нем. Подземный стенящий гул, топот уставших ног, бремя невыносимое. Но Спасово Око − яро. Оно ведет.
«Утешителю, Душе Истины…»
Вслушиваюсь в себя, спрашиваю немою мукой: будет ли, Господи,
сердце мое спокойно?»
М. Волошин
ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ
Не на троне – на Ее руке,
Левой ручкой обнимая шею, –
Взор во взор, щекой припав к щеке,
Неотступно требует... Немею –
Нет ни сил, ни слов на языке...
Собранный в зверином напряженьи
Львенок-Сфинкс к плечу ее прирос,
К Ней прильнул и замер без движенья
Весь – порыв и воля, и вопрос.
А Она в тревоге и в печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где престол пожарами повит.
И такое скорбное волненье
В чистых девичьих чертах, что Лик
В пламени молитвы каждый миг
Как живой меняет выраженье.
Кто разверз озера этих глаз?
Не святой Лука-иконописец,
Как поведал древний летописец,
Не печерский темный богомаз:
В раскаленных горнах Византии,
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
Но из всех высоких откровений,
Явленных искусством, – он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.
От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век, –
Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междуусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ твой над Русью вознесенный
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаенный.
Ты напутствовала пред концом
Воинов в сверканьи литургии...
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим Лицом.
Не погром ли ведая Батыев –
Степь в огне и разоренье сел –
Ты, покинув обреченный Киев,
Унесла великокняжий стол.
И ушла с Андреем в Боголюбов
В прель и глушь Владимирских лесов
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намет шатровых куполов.
И когда Железный Хромец предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дороги заступил?
От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе на Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий...
Цепкие сбиратели земли...
Здесь в Успенском – в сердце стен Кремлевых
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлою слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари...
Черной смертью и кровавой битвой
Девичья светилась пелена,
Что осьмивековою молитвой
Всей Руси в веках озарена.
И Владимирская Богоматерь
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам
На порогах киевских ладьям
Указуя правильный фарватер.
Но слепой народ в годину гнева
Отдал сам ключи своих святынь,
И ушла Предстательница-Дева
Из своих поруганных твердынь.
И когда кумашные помосты
Подняли перед церквами крик, –
Из-под риз и набожной коросты
Ты явила подлинный свой Лик.
Светлый Лик Премудрости-Софии,
Заскорузлый в скаредной Москве,
А в Грядущем – Лик самой России –
Вопреки наветам и молве.
Не дрожит от бронзового гуда
Древний Кремль, и не цветут цветы:
Нет в мирах ослепительнее чуда
Откровенья вечной красоты!
С. Городецкий
У КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
У Казанской Божьей Матери
Тихо теплются огни.
Жены, дочери и матери
К Ней приходят в эти дни.
И цветы к Ее подножию
Ставят с жаркою мольбой:
«Матерь-Дева, силой Божией
Охрани ушедших в бой.
Над врагом победу правую
Дай защитникам Руси,
Дай сразиться им со славою
И от смерти их спаси.
Священник Анатолий Жураковский
Россия, моя Россия,
Страна несказанных мук,
Целую язвы страстные
Твоих пригвожденных рук.
Ведь в эти руки когда–то
Ты приняла Самого Христа,
А теперь сама распята
На высоте того Креста.
Я с тобой, на руках моих раны,
И из них сочится кровь,
Но в сердце звучит «осанна»
И сильнее смерти любовь.
Впереди я вижу своды
Все тех же тюремных стен,
Одиночку, разлуки годы
И суровый лагерный плен.
Но я все, я все принимаю
И святыням твоим отдаю,
До конца, до самого края
Всю жизнь и всю душу мою
Много нас, подними свои взоры,
Погляди, родная, окрест:
Мы идем от твоих просторов,
Поднимаем твой тяжкий крест.
Мы пришли с тобой на распятье
Разделить твой последний час.
О, раскрой же свои объятья
И прости, и прими всех нас.
Н. Карпова
ПОКРОВ СЕГОДНЯ
Покров сегодня. Во Влахернском храме
Андрей Юродивый и Епифаний,
Принесшие другим благую весть.
Открылась их благочестивым взорам
Заступница с небесным омофором,
Молившаяся вместе с ними здесь.
Покров сегодня. Путь в Константинополь,
Душой преодолев в мгновенье ока,
И я молюсь. Да будет омофор
Пречистой Девы простираться ныне
Над грешными, погрязшими в гордыне
Рабами, сознающими позор
Своей ничтожной жизни! Век двадцатый,
За отступленье на кресте распятый,
Уходит Богородица, спаси!
Не по делам, по вере, покаянью.
А также по великому стоянью
Подвижников Святой Руси.
В 1884 году великий князь Константин Константинович Романов посвятил Елизавете Федоровне стихотворение.
Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как ангел ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто
средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!
Валерий Воскобойников
ВЕЛИКОЕ СЛУЖЕНИЕ
Патриарх Московский и всея Руси Тихон
(отрывки)
ВЫБОРЫ ПАТРИАРХА ВСЕЯ РУСИ
Война, от которой устали все, продолжалась. На заводах, на кораблях и даже в окопах шли бесконечные митинги. Митинговали под открытым небом на городских площадях, в зданиях, где были залы, в дворянском собрании и в цирке. Все обсуждали, как жить великой стране дальше, у каждого было свое мнение. Многие были недовольны правительством, газеты писали, что Россия зашла в тупик, из которого нет выхода.
В конце октября 1917 года в Петербурге произошел переворот, и власть взяли большевики. На улицах Москвы в эти дни стреляли пушки, били пулеметы. Кремль переходил из рук в руки.
Сначала, 31 октября, все члены Собора должны были избрать трех кандидатов на самое высокое место в Русской церкви.
Усердно помолившись, они выстроились в длинные очереди, чтобы опустить листки в урны для голосования.
Кандидатами на патриарший престол стали три человека: архиепископ Харьковский Антоний, архиепископ Новгородский Арсений и митрополит Московский Тихон.
Дальнейшее решение было предоставить воле Божией.
В Храме Христа Спасителя назначили торжественную литургию. Все три кандидата в это время находились дома.
Власть большевиков в те дни окончательно утвердилась в Москве. Для молебна нужна была православная святыня – икона Владимирской Божией Матери, которая находилась в Кремле. После долгих уговоров большевики разрешили перенести ее в храм для молебна. Величественный храм вмещал 12 тысяч человек и был переполнен. Во время молебна прочли особую молитву. Потом митрополит Киевский Владимир, старейший из иерархов, который служил в этот торжественный час, подошел к аналою, взял ларец, в котором были три записки с именами, благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, и снял печати.
Все замерли, приближалась историческая минута.
Из алтаря вышел глубокий старец, знаменитый затворник Зосимовой пустыни, которая помещалась недалеко от Троице-Сергиевой Лавры. Ради церковного послушания старец участвовал в Соборе.
Старец Алексий перекрестился и не глядя вынул из ларца записку, подал ее митрополиту Владимиру. Митрополит развернул ее и громко прочитал:
– Тихон, митрополит Московский.
Ликование охватило всех, кто был в храме. Хор вместе с молящимися запел «Тебе Бога хвалим». Многие надеялись, что с обретением Патриарха стране удастся справиться и народ соединится ради доброй и мирной жизни.
Все епископы и огромная толпа верующих отправились на Троицкое подворье, чтобы поздравить теперь уже Патриарха всея Руси Тихона.
Однако Патриарха успели оповестить, и он вышел навстречу процессии спокойный и смиренный.
Архиепископ Антоний сказал приветственное слово и глубоко ему поклонился. Епископы и все верующие поклонились вслед за ним так же глубоко.
Патриарх Тихон поклонился им в ответ и произнес короткую речь. Он больше многих понимал, сколько горя, плачей и страданий принесут будущие годы стране. Быть может, он на мгновение усомнился, сумеет ли вынести эту страшную ношу. Но раз уж именно на него выпал жребий, он должен быть исполнить волю Божию до конца.
ГОНЕНИЯ
Через несколько месяцев на всей бывшей Российской империи началась Гражданская война. В местах, где правили большевики, гонения на Церковь стали еще страшнее.
Историки подсчитали, что только за один 1918 год новая власть закрыла 26 монастырей, 94 храма. Ее представители убили 102 священника, 14 диаконов. 94 монаха. Но это было только начало.
Такие унижения, преследования, казни Церковь испытала только в первые века, когда вся сила Римской языческой империи была направлена против христиан. Патриарх понял, что главное – сохранить Церковь. И в безбожном государстве отделенная от него Церковь может оставаться православной. У государства – сила, оружие. У Церкви – истина и стойкость.
Патриарх был готов к любым гонениям против себя, лишь бы сохранить независимость Церкви от безбожных властей. И все-таки с властями нужно было разговаривать. Стараться притупить их оружие, которое они направляли против верующих. И патриарх ежедневно проявлял мудрость и терпение для таких переговоров.
ПОЧЕМУ БОЛЬШЕВИКАМ МЕШАЛ БОГ
Большевикам мешала не только Православная Церковь. Им мешала любая вера, любая религия. Они закрывали храмы католические и протестантские, синагоги и молельные дома.
Большевики объявили миру, что будут создавать новый тип человека. Возможно, этот тип человека был бы не так плох, если бы его не творили злодейскими способами, путем убийств и заключения в тюрьмы миллионов ни в чем не повинных. Большевики хотели построить райское общество на земле без участия Бога. Человечество в который раз само себя обмануло. Упоенные успехами технических изобретений, люди решили, что они самые сильные на земле, сильнее природы и могущественнее Бога, что сами могут стать творцами нового мира. Они впали в очередной соблазн, сами о том не догадываясь. То, что воспитывалось с помощью Церкви сотни лет, большевики старались перечеркнуть, забыть. Они хотели единолично управлять народом. Они обещали людям мир, свободу, землю. Вместо мира страна, уставшая от мировой войны, получила войну гражданскую. Вместо свободы народ получил рабское состояние. Землю, данную крестьянам, очень скоро отобрали, а самих крестьян вернули в крепостное состояние.
Христианская Церковь учила любить врагов. Большевики приучали людей к классовой вражде. Церковь учила прощать, большевики – ненавидеть. Светлое будущее, коммунизм, которое они обещали людям построить, было обыкновенным сатанинским соблазном, только мало кто об этом догадывался.
Бог для большевиков был одним из главных врагов. Они не знали, что любое дело, лишенное Божественного света, оборачивается против того, кто это дело замышляет.
ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ
Летом 1921 года начался голод в Поволжье. Земля, которая воевала семь лет, не могла прокормить своих жителей. На огромных просторах все было сожжено солнцем, есть людям было нечего. Старики, взрослые и дети, умершие от голода, лежали в домах, по обочинам дорог, на деревенских улицах.
Патриарх Тихон призвал верующих отдать все ценное, что есть дома и в церквях, кроме предметов, необходимых для службы. На деньги, вырученные за ценности, комитеты помощи голодающим должны были закупить хлеб.
Но большевикам этого показалась мало. Они воспользовались тем, что народ был испуган голодом, изможден войной, и решили окончательно расправиться с Церковью. Они принялись отнимать священные предметы, которые Церковь трепетно хранила во все века. Даже татаро-монголы во время ига не смели покушаться на эти предметы.
Против такого святотатства восстали сами верующие. Святейший Патриарх не мог допустить полного разграбления церквей и выступил с гневным посланием.
Как бы в ответ тогдашний властитель России Владимир Ленин требовал от своих соратников полностью разгромить Церковь.
«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, а на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления», – так писал Ленин в своих секретных письмах соратникам.
Главная газета страны «Известия» напечатала «Список врагов народа». Первым в этом списке был Патриарх Тихон «со всем своим церковным Собором».
«Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать», – продолжал призывать Ленин.
В каждом городе, во многих сельских храмах священников или убивали, или отвозили в тюрьмы. Был арестован и Святейший Патриарх Тихон.
Горькие дни переживал он в тюрьме, но оставался таким же мудрым, кротким и добрым. И таким же твердым в вопросах веры.
Несколько священников, запуганных новой властью, а может быть, и по ее приказу, объявили о том, что они создают новую Церковь, обновленную. Они попробовали лишить святителя патриаршего сана. Возможно, они надеялись, что верующие пойдут за ними. Но большинство честных людей от них отвернулись.
Правительства разных стран, известные граждане Европы слали телеграммы в Москву, в которых требовали немедленно вернуть свободу Патриарху. Российские руководители не ожидали, что на защиту Святейшего Патриарха поднимется весь мир, и испугались. 16 июня 1923 года тюремные ворота открылись, и Патриарх вышел на свободу.
Епископ Каскеленский Геннадий (Гоголев) ко дню новомучеников и исповедников Российских
Что вам слышится? Отклик конвоя?
Лязг затвора и выстрел глухой?
Незнакомое чувство святое
В этот миг овладеет душой.
С каждым часом сильней и смелее
Из души это чувство росло,
А на карточке желтой - острее
Иссушенное пыткой чело.
В нем слились и упорство, и воля,
Понесенных скорбей торжество,
И огромное озеро горя
В глубине напитало его.
Иерархи в униженном сане,
Лица старых монахов, дьячков
С этих карточек смотрят очами
В новый век на далеких сынов.
Как вы выжили? Как сохранила
Вашу душу седая тюрьма?
Не сломала вас, не убила,
Не свела на допросах с ума?
Словно дети, рыдали и лгали
Здесь герои Гражданской войны.
Только вы в кабинетах молчали,
Не признав клеветы и вины.
Истощились до тени, до нитки,
И не дав торжества палачам,
Претерпели бессонные пытки,
Убивающий свет по ночам.
А наутро, лишь солнце украсит
Над тюрьмою лазоревый свод,
Сам Христос, молчалив и прекрасен
За Собою вас в рай поведет
Стихи Надежды Павлович
Приводятся по книге «Пастырь Добрый», составитель Сергей Фомин – серия «Русское православие ХХ века», Москва, издательство «Паломник», 1997 г. Указано составителем, что достоверно установлено авторство Н. Павлович только одного стихотворения – «Цынготные, изъеденные вшами…». Но в архиве Ирины Сергеевны Мечевой, дочери священномученика Сергия, все приводимые ниже стихи были объединены в единый цикл.
|
Новомученикам и исповедникам Российским
____________________________________ Цынготные,
изъеденные вшами, Вас хоронили запросто, без гроба, В бараках душных, по дорогам Коми, Без имени, без чуда, в смертной дрожи Есть где-то далеко река на заре золотая, Храм наш крепко заперт, заперт крепко, Благовещенскую чашу И опухший, маленький, горбатый, Был другой, спокоен, строг и светел И в бараке задымленном, душном Вот слепец, но в душу смотрят очи, И склонивший под Христово иго Но того, кто всю подъемлет муку Веянием покоя неземного Что нам осталось? Храм наш взят, Но знаем мы: издалека Только солнце знает радость, Ни приветствовать любимых, Но душой освобожденной Я люблю тебя, мой тихий вечер, А. Демидов БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ Тонкое лицо императрицы, Но летит! |
Ректор Российского Православного университета св.ап. Иоанна Богослова
Учительное значение подвига новомучеников и исповедников Российских
Скоро будет четыре года с тех пор, как произошло поистине эпохальное событие - канонизация сонма новомучеников и исповедников Российских. Мы еще далеко не в полной мере оценили важнейшее, воистину основополагающее значение их для нашей жизни и судеб нашего земного Отечества. Многое нам предстоит еще в этом отношении сделать, узнать и понять. Но сейчас становится ясно, что даже сами наши представления об истории истекшего столетия, и что происходило на его протяжении, нуждаются в существеннейшем пересмотре. И ничуть не удивительно будет, если в некотором и не столь уже отдаленном времени двадцатый век откроется нам прежде всего не как век истребительных войн, русской революции и массового геноцида народов. непоправимых культурных потерь, но как век, когда в России явлено было великое свидетельство о Христе, сопоставимое разве только со свидетельством первых веков христианства. Причем, явлено не только для России, но и для всего мира.
Мы только начинаем осмысливать сегодня историю двадцатого века, распутывать его «узлы». А будущее наше ныне должно созидаться на руинах, оставшихся после крушения двух империй - Российской и Советской. Мы стоим сегодня на распутье. Сохранилась ли живая нить, связующая прошлое, настоящее и будущее? От того, как мы ответим на этот вопрос, зависит быть России или не быть. Для нас, людей православных, ответ ясен. Только Церковь Христова, соединяющая времена и лета, небесное и земное, открытая касанию непреходящего и вечного, является тем краеугольным камнем, на котором Господь созиждет обновленную Россию, которую неисповедимым Промыслом Божиим провел через все испытания минувшего столетия для очищения и назидания. Прославление сонма новомучеников и исповедников Российских, совершившееся на юбилейном Архиерейском соборе 2000-го года, открывает нам путь к уразумению воли Божией. Именно эта канонизация людей, живших недавно, помогает нам осознать, что и в наши дни еще не иссякла заповеданная миру Христом Искупителем любовь, оскудение которой на земле, по слову Его, знаменует приближение кончины мира (Мф. 24:12-14).
Что может объединить людей, раздробленных и разобщенных, разделившихся на враждующие партии, ни в чем не согласных между собою? Как преодолеть ненавистную рознь мира сего? Можно ли влить в их сердца животворящую силу любви? Не так страшен был бы даже распад империй, если б не коснулось разрушительное начало самих душ человеческих. Не удивительно, что нравственное разложение стало отличительной особенностью нашего времени. Продолжают распадаться семьи, выброшенными на улицу и никому не нужными оказались сотни тысяч детей. А средствам массовой информации дана почти неограниченная свобода пропаганды насилия, жестокости, себялюбия и низменных наслаждений, преподносимых людям в качестве непререкаемых правил жизни. При таких обстоятельствах совершенно недостаточно ограничиваться одними призывами к возврату к традиционным ценностям, возмущаться и негодовать. Нужна вера, вера в Того, Кто один в полной мере осуществил в Себе высший идеал человека, Того, Кто с отстоянием веков не становится от людей дальше. Тому неоспоримою порукою сияние Истины, явленное новомучениками и исповедниками Российскими в их подвиге не только нашему Отечеству, но и всему миру. Современным людям не обойтись без такого живого свидетельства. Напомним, что само греческое слово «мартис» - мученик — означает «свидетель».
Не отступая от Христа даже перед угрозой страданий и смерти, мученики воистину следовали Христу, избрав в мире то, что выше и драгоценнее мира. Вспомним слова св. Игнатия Богоносца: «Хочу быть Божиим: не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету: явившись туда, буду человеком... Пусть измелят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым». Не служение миру и прихотям века сего, а победа духа над плотью и тлением приносит плоды сторицею.
Недаром сказано преподобным Серафимом Саровским: «Спасись сам и рядом с тобой спасутся тысячи». Мученик ставится перед непреложным выбором, что ему дороже: Христос или собственное земное существование. И оставшись со Христом, он в высшей степени исполняет заповедь любви: «Кто хочет душу свою сберечь, то потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16:25). Со времен древней Церкви мученичество почиталось, как достохвальное совершение добродетелей - мужества, мудрости, праведности, смирения и целомудрия. Явленная миру нетленная красота души и делает самого мученика храмом Святаго Духа.
«Всякая сила в жизни, - говорил священномученик Фаддей Успенский, в честь которого названы Курсы законоучителей при Отделе церковного образования и катехизации, — заключается в единении со Христом: в этом единении — источник всякого воодушевления, в нем залог плодотворности того дела жизни, к которому вы будете призваны. Узы же, которыми укрепляется единение со Христом, есть любовь Христова».
Подобно мученикам первых веков, таким как св. Игнатий Богоносец, преосвященный Фаддей, не ведая еще своей будущей участи, обращался к учителям: «Как сделать, чтобы жизнь народа, вами просвещаемого, стала истинно христианскою... Христос и Его Церковь, жизнь во Христе под сенью Церкви - вот чем пламенела душа моя... Желаю более всего для вас, чтобы это сокровище духовное видеть распространяемым вами посредством школы. И мне приходилось иногда как бы снедать тот свиток книжный, который исписан был словами: «плач и стон, и горе» (Иез. 2:9,10); и быть снедаему огнем ревности при виде того, как унижается слава Церкви Христовой...».
Как важно нам, в современных условиях, приобщая детей к Церкви и православной культуре, передать им не только совокупность сведений, не одни только знания, но и дух веры, горение сердца за Христа, без которого никакие знания сами по себе ничего не стоят.
Священномученик Фаддей не отступил от своих высоких слов, самой жизнью и смертью своей доказав верность Христу. Ничуть не поколебавшись душою, он принял венец мученичества с тем неисповедимым достоинством, с каким на протяжении многих лет нес терновый венец учительства, выполняя апостольский долг просвещения народа.
С самых первых времен в Церкви принято было составлять и бережно хранить повествования о жизни и деяниях святых подвижников и исповедников. Начало этому было положено еще евангелистом Лукой в Деяниях Святых Апостолов. Святой апостол Павел в одном из посланий напоминает нам: «Поминайте наставники ваша, иже глаголаше вам слово Божие, ихже взирающе на скончание жительства, подражайте вере их» (Евр. 13,7). Почитание новомучеников и исповедников Российских ширится, но пока далеко не соответствует всей значимости их подвига. В их честь освящаются новые храмы и престолы, о них издаются книги. Наследие новомучеников и исповедников Российских велико и чрезвычайно значимо сегодня, хотя до сих пор ему не придано достаточного внимания.
На протяжении столетий русские люди воспитывались на Четьях-Минеях. Наши предки с древних времен поучались, находили вразумление и немалое утешение в чтении житий святых и подвижников. Они встречали там непререкаемый образец для подражания, и обретали в лице их небесных заступников, к которым обращались с молитвой. Именно через молитву к святым осуществляется неразрывная связь Церкви земной и Небесной.
«В детстве и отрочестве,- писал из камеры смертников священномученик Вениамин Петроградский, - я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те».
Только сегодня нам стали доступны письма священномучеников, заточенных в Соловецком концлагере, удивительные, живые свидетельства непоколебимой веры, твердого упования и неиссякаемой любви. Там, где зачастую в придавленных, истощенных и измученных людях терялся сам образ человеческий, мы видим не падение, а возвышение души, очищение ее от греха, основанное на величайшей требовательности не к другим, а к самому себе.
«Пусть скорбь твоя о злобе мира, - писал из Соловков священномученик Иоанн Стеблин-Каменский, - не попустит тебе запачкаться этой злобой и утеснить ею любовь и в твоем сердце... Пусть каждый, видящий общественные недостатки и непорядки, постарается прежде всего восстановить должный порядок в себе самом. Пусть замолчит в нем все животное, пусть воцарится в нем Дух Кротости, Дух Любви.
Мир лежит во зле, и, предоставленные себе, мы часто изнемогаем в борьбе со злом... Но вот Господь идет человеку навстречу и протягивает ему Свою руку, чтобы вести его много дальше, чем куда он надеялся дойти... Радостно поэтому я приму всякое новое испытание, лишь бы Господь благоволил очистить сердце мое от греховной тяготы».
В сонме святых новомучеников и исповедников Российских мы видим самых разных людей. Не только священнослужители, в жизни во Христе соединились все сословия России - от князей и генералов, от помещиков, профессоров и купцов до беднейших крестьян, люди всех возрастов - от убеленных сединами старцев до юношей и подростков. Всех их объединяла прежде всего преданность Христу и благоговение перед живущим в их душах идеалом Святой Руси. Им, несомненно, были присущи ставшие сегодня такими дефицитными доброта, отзывчивость, сердечность, мягкость русской души, напитанной тысячелетней христианской культурой. До своей мученической кончины они жили совсем по-разному, не которые из них могли показаться стороннему взору слишком простыми и обыкновенными людьми. Но когда перед ними встал выбор: сохранить ли верность Христу и Его Церкви или вступить на путь богоотступничества, они предпочитали смерть жизни без Бога.
Рассматривая подвиг новомучеников в историческом контексте, мы видим, что многие из них стали жертвами так называемых «обновленцев»,демонстрировавших свою лояльность к советской власти. Политическое прислужничество «обновленцев» обернулось их вероотступничеством и идейным крахом. Опыт противостояния этому духовному оппортунизму со стороны верных служителей Патриаршей Тихоновской Церкви заслуживает глубокого внимания и изучения. Этот опыт помогает нам и сегодня в сохранении внутренней церковной свободы, в преодолении искушения интеграции с государством. Конечно, мы сознаем, что нынешнее Российское государство не является богоборческим,- но ведь это стало возможным именно благодаря подвигу исповедников и мучеников Христовых!
По их молитвенному ходатайству Господь помог устоять Своей Церкви в России, и ныне чудесно укрепляет ее Своею Благодатью, быть может, готовя ее к последней всемирной проповеди Евангелия. Успех этой проповеди будет зависеть, на наш взгляд, именно от того, последует ли русский народ заветам своих святых - исповедников и мучеников, преподобных и святителей. Если последует, то нам не страшны никакие силы зла и преисподней, откуда бы они не исходили. Тогда могут исполниться и заветные пророчества наших святых о спасительной всемирной миссии русского народа.
Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на открытии XI-х Рождественских Чтений подчеркнул, что «без возрождения подлинной культуры, без обращения к духовным первоистокам» нам «не преодолеть тяжкое достояние, оставленное XX веком», что неоценимое значение для понимания прошлого и для устроения будущего имеет Православие, что судьба России - в руках воспитателей и педагогов. Литература с жизнеописаниями святых, сохраняющая историческую память и воспитующая самосознание народа, подвергалась гонениям и полному изъятию всякий раз, когда на государственном уровне ставилась задача изменения мировоззренческих основ русского народа. Это было и во времена Петровских реформ и во времена разгула атеизма в недавнем прошлом. Ибо эта литература - источник воды живой, она может и должна стать оздоровляющей прививкой и выполнить свою миссию духовно-нравственного возрождения народа.
Трудно переоценить значение жизнеописаний святых Новомучеников как достоверных источников по новейшей истории Русской Православной Церкви. В семи книгах уникального исследования игумена Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия» представлено более 800 житий Новомучеников, причисленных к лику святых. Поистине, это энциклопедия народной жизни России, запечатлевшая подвиг людей всех сословий и званий.
Святые угодники Божий, осуществив в своей земной жизни высший нравственный идеал, по словам св. Иоанна Кронштадтского, самым положительным и достойным общего подражания способом отвечают нам на главный вопрос о цели жизни и способах достижения этой цели: усердным исполнением заповедей Христовых, презрением к здешней суетной жизни, необоримым стремлением к Жизни Вечной.
Одна из конкретных задач, стоящих перед нами сегодня - создание церковных музеев, посвященных памяти новомучеников. Такие музеи могут дать «второе дыхание» делу возрождения нравственных идеалов у подрастающего поколения.
Отныне каждый из нас может видеть великую славу святых мучеников, приобщиться к нетленной сокровищнице их исповедничества, следуя завету святого апостола Павла: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте, вере их» (Евр. 13,7). Мы можем теперь обращаться к св. новомученикам с молитвой и находить в ней утешение и помощь. Поистине, это национальные герои России. Ибо в подвиге их святости и заключена искомая нами национальная идея, выше которой не может быть ничего. Ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13).
До сих пор мы часто не можем в полной мере отказаться от расхожих схем, принятых идеологизированной исторической наукой прошлого века. Продолжается огульное осуждение всего новейшего периода церковной истории. Церковь обвиняется в прислужничестве властям, в сервилизме, в том, что она была всего-навсего придатком государственного механизма. Несомненно, что Синодальный период, не говоря уже о советском, был весьма непростым для нашей Церкви, испытывавшей немалые притеснения. Однако сонм новомучеников и исповедников Российских неоспоримо свидетельствует, что и в трудные времена церковные люди бескомпромиссно служили Христу, не променяли единого на потребу на мирские блага.
Некоторым христианам иногда хочется могущественной, по земным меркам, Церкви, вмешивающейся во все обстоятельства жизни, подменяющей собою государственную власть и общественно-культурную жизнь, иные же «просвещенные люди» страшатся непомерно усиливающейся на их взгляд роли Церкви и пугают мнимым приходом «клерикализма». Но Церковь Православная воистину всегда остается «для иудеев соблазном, а для еллинов безумием» (1 Кор. 1:20), являя собою вступление в земной мир качественно иного миропорядка. «Сила моя в немощи совершается»,- слова Спасителя нашего Господа Иисуса Христа слишком часто оставались на протяжении истории непонятыми и даже не воспринятыми. Смирение и милосердие, важнейшие христианские добродетели, прививавшиеся душе, не созидали человека власти, но меняли весь уклад человеческой жизни. Подлинное дело Божие творится невидимо и незаметно.
В советское время был воспет целый пантеон «героев», идеологам нужны были предтечи - непоколебимые борцы за «народное счастье», готовые принести себя в жертву за торжество социальной справедливости. О «пламенных революционерах» издавались целые серии для юношества. Из декабристов, народовольцев и социал-демократов, таких как Пестель, Перовская, Желябов, Каляев, Дзержинский, Войков, Урицкий, чьими именами до сих пор названы улицы и даже станции столичного метро, делали новых «революционных святых»,скрывая под раскрашенными бойкими борзописцами масками, подлинный облик политических авантюристов и безжалостных, не останавливавшихся ни перед чем, террористов, устроивших геноцид собственного народа.
А людей верующих, живших по заповедям Христовым, во всяком благочестии и чистоте, возлюбивших Бога и ближнего, лживо представляли заговорщиками, контрреволюционерами, обманщиками, врагами народа.
Россия не сможет идти вперед, если она не освободится наконец от лжи, накопившейся за предыдущее столетие. Не пора ли перестать посвящать вождям недавнего прошлого несоразмерно много внимания, продолжая так или иначе созидать им культ, мистифицируя их заурядные персоны, возвеличивая их ничтожество и ограниченность. Господь ныне открывает нам имена и лики тех, кто оставался в многолетнем забвении, униженных и оклеветанных, претерпевших до конца, но не отказавшихся от креста Христова, лучших людей России, составляющих ее немеркнущую славу и достояние.
Мы верим, что канонизация государя Николая II и его семьи должна мистически остановить процесс распада семьи, как ячейки государства, ибо она положила начало собиранию русского народа в одну семью и его возвращению, как блудного сына, под Отчий кров.
Ф.М. Достоевский мечтал о «новом слове», которое Россия «скажет миру». Для нас сегодня ясно, что это новое слово сказано в XX веке русскими святыми Исповедниками и Мучениками, ибо они как нельзя выше подняли планку нравственного идеала в Отечестве нашем и в народе нашем, соприкоснувшись с самой Вечностью.
Канонизация святых новомучеников и исповедников Российских несомненно стала величайшим духовным событием в истории нашей Церкви, свидетельствующем о непрекращающемся действии Духа Святого в Церкви Христовой, о единстве во Христе ныне живущих православных христиан со своими святыми предшественниками.
Подобно святым апостолам они на своем исповедническом пути претерпели все скорби и мученическую за Христа смерть, явив себя «как служители Божий, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, оружием правды в правой и левой руке» (2 Кор. 6:4-7). С любовью и благоговением обращаемся мы сегодня к подвигу новомучеников Российских. Не они нуждаются в нас, это мы нуждаемся в их повседневной помощи и поддержке. Они молитвенно предстательствуют за землю Русскую пред Богом.
Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о наc!
ИКОНА СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ПАТРИАРХА ВСЕРОССИЙСКОГО
.jpg)
ИКОНА СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

ИКОНА СОБОРА КЕМЕРОВСКИХ СВЯТЫХ
ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЦЕРКВИ. На исходе второго христианского тысячелетия Русская Православная Церковь приносит Христу плод своих голгофских страданий - великий сонм святых мучеников и исповедников Российских XX века. Тысячу лет назад Древняя Русь приняла учение Христово. С тех пор Русская Православная Церковь просияла подвигами святителей, преподобных и праведных. Церковь во многие периоды своей истории переносит совершенно открытые скорби и преследования, и мученическую смерть лучших ее служителей. Господь укреплял учеников Своих, уверив их в том, что если люди будут преследовать их и даже убьют, то душам их никогда повредить не смогут (Мф. 10, 28). И вера древней Церкви в эти слова Господа была очень сильна. Это помогало христианам мужественно встретить мучения. Эти непобедимые воины веры утверждали, что не чувствовали отчаяния перед смертью. Напротив, они встречали ее спокойно, с невыразимой внутренней радостью и надеждой. Живя во имя Христа, непоколебимою верою в нетленность и вечность, они всею душою желали принять смерть за Христа. Вся история Церкви строилась на подвигах. Мученичество имело огромное значение для утверждения Церкви Христовой в мире. XX век для России явился эпохой мучеников и исповедников. Русская Церковь пережила беспрецедентные гонения, воздвигнутые богоборцами на веру Христову. Многие тысячи иерархов, священнослужителей, монашествующих, мирян прославили Господа мученической кончиной, безропотным перенесением страданий и лишений в лагерях, тюрьмах, ссылках. Они умирали с верою, с молитвою, с покаянием на устах и в сердце. Их убивали как символ Православной Руси. Главой сонма Российских мучеников и исповедников за веру Христову явился святой Патриарх Тихон, который, характеризуя эту эпоху, писал, что ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле переживает тяжелое время: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово... А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: “Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?” (Рим. 8, 35). Многие из тех, кто пострадал за веру в XX веке, ревнуя о благочестии, желали жить в то время, когда верность Христу запечатлевалась мученической кровью. Святой Патриарх - исповедник Тихон писал: “...Если пошлет Господь испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божией совершится это с нами, и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову”. Сбылись чаяния исповедника веры святителя Тихона - на крови мучеников ныне возрождается Русская Православная Церковь. Святая Церковь, от начала возлагающая упование на молитвенное предстательство пред Престолом Господа Славы Его святых угодников, соборным разумом свидетельствует о явлении в ее недрах великого сонма новомучеников и исповедников Российских, в XX веке пострадавших. Боголюбивая полнота Русской Православной Церкви благоговейно хранит святую память о жизни, подвигах исповедничества святой веры и мученической кончины иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, вместе с Царской Семьей засвидетельствовавших во время гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу и Его Святой Церкви даже до смерти и оставивших о себе грядущим поколениям христиан свидетельство о том, что живем ли - для Господа живем, умираем ли - для Господа умираем (Рим. 14, 8). Терпя великие скорби, они сохраняли в сердце мир Христов, стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Они прославили Господа своими подвигами. Возлюбив Его и заповеди Его спасительные всем сердцем, всем помышлением, всею силою, они были столпами веры святой Церкви. Подвиг мучеников и исповедников укрепил Церковь, став ее твердым основанием. Огонь репрессий не только не смог уничтожить Православие, но, наоборот, стал тем горнилом, в котором Церковь Русская очистилась от греховной расслабленности, закалились сердца верных ее чад, непоколебимым и твердым стало их упование на Единого Бога, победившего смерть и даровавшего всем надежду Воскресения. Подвиг новомучеников и исповедников дает возможность сегодня всем желающим увидеть, что существует духовный мир и что духовный мир важнее, чем материальный. Что душа дороже всего мира. Самим фактом мученичества как бы спадает завеса со всех событий и обнажается суть: он напоминает, что испытания наступают, когда человек не может жить по совести и правде, не может быть просто честным гражданином, воином, верным своей присяге, не может не быть предателем всех, - если он не христианин. Жизнь новых мучеников Российских свидетельствует, что мы должны доверять Богу и знать, что Он не оставит Своих. Что мы должны готовиться более не к пыткам, не к голоду или к чему-нибудь подобному, но мы должны готовиться духовно и нравственно - как сохранить душу свою и свое лицо (Божий образ в человеке) незамутненными. Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная Церковь уповает на их предстательство пред Богом. И ныне в раскрытой истории Русской Церкви XX века навечно запечатлен подвиг Святых Царственных Страстотерпцев, новомучеников и исповедников, который учит нас строгой вере и служит для нас спасительным уроком.
25 января 2013 года председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент выступил с докладом на на пленарном заседании Международной конференции «Подвиг новомучеников и исповедников Российских в современной исторической литературе»

Дорогие участники Конференции! Я рад сердечно приветствовать всех Вас, собравшихся в этом зале Храма Христа Спасителя.
XX век был особенно тяжёлым, трагическим для нашей Родины, всего народа, Русской Православной Церкви. Россия потеряла миллионы своих сыновей и дочерей. Среди злодейски убитых, замученных в годы гонений было неисчислимое количество православных - мирян и монахов, епископов и священников, церковнослужителей, учёных, интеллигенции, простых рабочих и крестьян, единственной виной которых оказалась твёрдая вера в Бога. Это были обычные люди, такие же как и мы, но их отличала особая духовность, доброта, отзывчивость, сердечность, широта русской души, напитанной тысячелетней христианской историей и культурой, вера в Бога и верность своим религиозным убеждениям. Они предпочли умереть, чем жить без Бога, без Христа.
Можно, конечно, спросить, зачем вспоминать об этом? Ответ простой, хотя, быть может, для кого-то и неожиданный: в кровавые 20-30 годы у нас в России тоже свершилась великая Победа. Объяснение этому можно увидеть в словах христианского апологета Тертуллиана. «Мы побеждаем, когда нас убивают, - обращался он к римских языческим правителям в III веке. - Чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся; кровь христиан есть семя». Новомученики и исповедники своим подвигом явили славу Божию, носителями которой были мученики и исповедники на протяжении всех столетий, начиная с первого века существования Церкви. Подвиг этих святых остается в памяти Церкви, которая возрождается благодаря их молитвам.
Правление большевистской партии в России, особенно его первые два десятилетия, были ознаменованы небывалыми по размаху гонениями на Церковь. Большевистская власть не просто хотела построить новое общество по новым политическим принципам, она не терпела никакой религии, кроме своей веры в «мировую революцию». Антицерковные репрессии достигли пика в 1937 г., когда был издан секретный оперативный приказ, согласно которому «церковники» приравнивались к «антисоветскому элементу» и подлежали репрессированию (расстрелу или заключению в концлагеря). В результате этой кампании Православная Церковь и другие религиозные организации в СССР были практически полностью ликвидированы. В научной литературе приводятся цифры, согласно которым только за время 1937-1938 гг. было арестовано более 160000 служителей Церкви (в это число входят не только священники), из которых более 100000 были расстреляны. В Русской Православной Церкви на всей территории СССР к началу Второй мировой войны на кафедрах осталось всего 4 архиерея (из примерно 200), служение в церквях продолжали только несколько сот священников (до 1917 г. их было более 50000). Так, репрессиям подверглось не менее 90% духовенства и монашествующих (большинство из них были расстреляны), а также значительное число активных мирян.
С 1980-х гг. в Русской Православной Церкви сначала за рубежом, а затем и в Отечестве начался процесс канонизации новомучеников и исповедников Российских, пик которого пришелся на 2000 г. К настоящему моменту причислено к лику уже около двух тысяч подвижников. Можно утверждать, что в период большевистских гонений Русская Церковь дала миру тысячи святых - поистине, великое число мучеников и исповедников в рамках новейшей истории.
К сожалению, находятся скептические голоса, сомневающиеся в том, можно ли считать их мучениками, пострадавшими за Христа? Некоторые, например, считают, что подвергшиеся репрессиям от советской власти члены Церкви пострадали не за веру, а за свои политические (антисоветские) взгляды. Именно такой была позиция самой советской власти. Действительно, формально в СССР преследований за веру не было. Советская власть, провозгласив в январе 1918 г. «свободу совести», многократно заявляла, что ведет борьбу не с религией, а с контрреволюцией. Большинство церковных людей, репрессированных в 1920-1930-е гг., были осуждены за действия, «направленные к свержению власти».
Однако сама Церковь не участвовала в антибольшевистских заговорах и старалась быть лояльной к советской власти, о чём неоднократно свидетельствовали призывы первоиерархов, которые не хотели, чтобы Церковь была спровоцирована и обвинялась в политической деятельности. Поэтому обвинения со стороны большевиков в том, что Церковь ведёт антисоветскую деятельность и контрреволюционную агитацию были абсолютно необоснованны. А это значит, что подвиг новомучеников и исповедников состоял в их стоянии в вере, а не противостоянии государству как таковому, и они пострадали за то, что не отреклись от Христа и продолжали Ему служить, сохраняя верность Церкви и каноническому строю Православия.
Следует также отметить и в будущем тщательно изучить тот факт, что кроме жертв антицерковного террора среди взрослых верующих были также дети и юноши не достигшие совершеннолетия. В Соловецком лагере особого назначения за исповедание своей веры в Бога были расстреляны два совсем еще юных юнги 12 и 14 лет. Подобное происходило в разных местах, причем суд и казнь над несовершеннолетними осуществлялись в рамках закона, который позволял расстреливать детей уже с 12 лет! (постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г., № 3/598). И если можно было хоть как-то подозревать взрослых христиан в антисоветской деятельности, то что должны были совершить дети, чтобы не угодить коммунистической власти? Отсюда вырисовывается явная подмена понятий в обвинениях против верующих.
И, хотя физически к концу 1930-х гг. Русская Церковь была практически полностью уничтожена, духовно она оказалась не сломлена, ибо, по слову митрополита Петроградского Иосифа (Петровых), «смерть мучеников за Церковь есть победа над насилием, а не поражение». В итоге единственным пережившим коммунистический строй сословием оказалось духовенство.
Была только одна сила, которую Церковь могла противопоставить безумной злобе гонителей. Это сила ВЕРЫ, и проистекающей от нее святости. Столкнувшись с этой великой силой, с этим духовным сопротивлением, воинствующее советское безбожие помимо своей воли вынуждено было отступить. Новомученики и исповедники Российские не боялись жить по Евангелию даже в самые мрачные годы ленинско-сталинской тирании, жить так, как велела им их христианская совесть, и готовы были умереть за это. Господь принял эту великую жертву и Своим Промыслом направил ход истории в годы Второй мировой войны так, что советское руководство вынуждено было отказаться от планов жестокого искоренения религии в СССР. Но как бы последующие периоды советской истории не назывались («оттепелью», «застоем») в годы правления советской власти (40-80-е ХХ в.) верующие подвергались репрессиям за свои религиозные взгляды и верность Христу.
В прошедшем столетии Церковь столкнулось с колоссальным явлением, с тем, с чем никогда до этого не сталкивалась - это массовый подвиг мученичества. Появление невероятного количества святых. За прошедшие годы Русской Православной Церковью собраны многочисленные свидетельства о христианах, пострадавших в гонениях за веру Христову в XX веке. Накоплен обширный материал, позволяющий объективно оценить ситуацию того периода. Однако, за короткое время весьма трудно осмыслить такое огромное количество информации. Потребуется тщательная и продолжительная работа.
К сожалению, мы слишком мало знаем о конкретных подвигах новомучеников, их духовном наследии. Перечисляя их имена, нам в настоящее время весьма затруднительно сказать что-то об их жизни и праведной кончине. В связи с этим ощущается огромная нужда в доступной повествовательной литературе. Нам сейчас необходимы не только исторические исследования, но и художественные книги, исторические повести, поэмы и прочее.
Сегодня Русская Православная Церковь старается популяризировать и сделать широко известным подвиг новомучеников Российских. В целях реализации Определения Архиерейского Собора 2-4 февраля 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» на прошлом заседании Священного синода в декабре 2012 года было принято решение о создании Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских под председательством Святейшего Патриарха.
6 ноября 2012 года в рамках выставки-форума «Православная Русь» Издательский Совет Русской Православной Церкви и Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров» провели презентацию комплексной целевой программы распространения почитания новомучеников и исповедников российских «Светочи России XX века». Эта программа реализуется по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и имеет целью создание информационных условий и возможностей для общецерковного почитания и прославления новомучеников и исповедников российских, осмысление и усвоение величия их духовного подвига.
Для того чтобы память о новомучениках укреплялась в нашем обществе как пример стойкости веры, необходимо активизировать работу по расширению в народе почитания святых новомучеников и исповедников. Следует:
1. Проводить церковно-общественные мероприятия (конференции, форумы, съезды);
2. Изучать историю подвига новомучеников и исповедников в учебных заведениях как духовных (семинариях, училищах), так и общеобразовательных (гимназиях, школах);
3. Создавать документальные и художественные фильмы, вести телевизионные передачи, издавать литературу, посвященную подвигу новомучеников и исповедников;
4. Создавать епархиальные центры содействия почитания подвига новомучеников и исповедников российских на епархиальном и приходском уровне, которые бы занимались сбором соответствующего материала, его систематизацией и изучением.
Подводя итог, можно сказать, что сила и единство любого народа, его способность давать ответ на бросаемые ему вызовы, определяются, прежде всего, его духовной крепостью. Вершина же духовного возрастания - это святость. Святые подвижники объединяли, объединяют и будут объединять народ России. Возможно, конечно, собрать людей и под знаменами идей ложных, проникнутых ненавистью. Но такое человеческое объединение не будет долговечным, чему мы видим яркие исторические примеры. Подвиг же новомучеников имеет непреходящее значение. Сила святости, явленная ими, победила злобу большевиков-богоборцев. Почитание новомучеников и исповедников на наших глазах объединило Русскую Церковь, внешне, стараниями тех же богоборцев, разделившуюся в конце 1920-х годов. Но без возвращения к истинным ценностям, идеалом которых является святость, наше общество останется обреченным. Если у народа нашей страны есть будущее, то только в следовании той Истине, верность которой явили наши святые, ближайшие из которых к нам - новомученики и исповедники Российские.