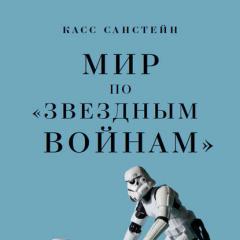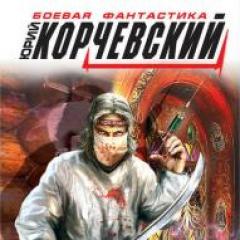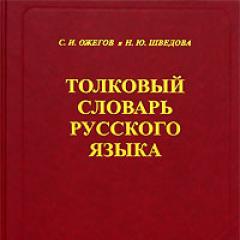Откуда земля сибирская пошла. Культура сибири на начальных этапах истории
Наиболее ранними остатками человека и его культуры в ближайших к Сибири областях Европы и Азии являются находки в заполнении древних пещер на возвышенности Чжоу-коу-дян в Северном Китае, вблизи Пекина. Синантропы, обитавшие там, имели резко выраженные обезьяноподобные черты. В то время из древних теплолюбивых животных жили саблезубый тигр-махайрод, носорог Мерка, впоследствии вымершие.
Синантроп пользовался огнем и выделывал каменные орудия, по уровню технического оформления близкие к ашельским изделиям нижнепалеолитического времени. К тому же отдаленному времени могут быть отнесены грубые каменные изделия из расколотых поперек речных галек, найденные на высотах Тянь-Шаня в Киргизии, на р. Он-Арча, по пути от оз. Иссык-Куль к Нарыну.
В более позднее, мустьерское, время в Европе и Азии продолжали существовать виды животных предшествующего времени, но наряду с ними впервые появляются представители той фауны, распространение которой было связано с прогрессирующим похолоданием, с общим ухудшением климатических условий, чем и характеризуется, в сущности, все последующее время - до конца ледникового периода.
К мустьерскому времени относятся изделия человеческих рук и остатки человека неандертальского типа, обнаруженные в гроте Тешик-Таш в юго-западном Узбекистане, в пещере Амир-Темир, а также находки в пещере Аман-Кутан около Самарканда, в ряде пунктов на Красновод- ском полуострове, в нижней части долины Узбоя и в бассейне р. Сыр- Дарьи около Ленинабада и Науката.
Мустьерским временем датируется, повидимому, также каменный остроконечник двусторонней обработки, найденный М. В. Талицким на р. Чусовой.
Очень интересны также грубые массивные отщепы pi остроконечники, обнаруженные в древних галечниках около аула Канай на Иртыше в северо-западном Казахстане. Они имеют настолько архаический вид, что могут быть по типологическим признакам отнесены к времени, предшествующему верхнему палеолиту. Это все, чем мы располагаем сейчас для древнейших этапов человеческой истории в ближайших к Сибири областях восточной Европы, Средней и Центральной Азии.
На территории Сибири также зарегистрированы остатки древней теплолюбивой фауны, которая сопутствует древнейшим людям - человеку нижнего и среднего палеолита. Таковы остатки древнего слона - трогонтерия, носорога Мерка, эласмотерия в песках у Павлодара и широколобого оленя в галечниках второй надпойменной террасы на Иртыше в Тобольском округе, которые относятся к так называемому тираспольскому комплексу ископаемой фауны. Последующему, позднему стьерскому времени принадлежат остатки животных, образующие «хазарский» фаунистический комплекс, распространенный на громадной территории восточной Европы, северной и Средней Азии и занимающий, в общих чертах, пространство между 45 и 60° с. ш., на востоке до пределов Забайкалья, а на западе до Британских островов и Франции включительно.
И все же, несмотря на эти факты, свидетельствующие, что природные условия Сибири и советского Дальнего Востока были достаточно благоприятны для существования древнейших людей нижнего и среднего палеолита, бесспорных следов их деятельности здесь пока еще не обнаружено. Вопрос о существовании древнейшего человека в Сибири остается еще до сих пор нерешенным. Вполне вероятно, что обширные пространства, лежащие к востоку от Урала, в это далекое время, когда первобытное человечество проходило первые этапы своего развития, оставались еще безлюдными.
Вероятность этого предположения подтверждается также и тем, что на территории Сибири не найдено пока никаких признаков наличия древних человекообразных обезьян, а первые обезьянолюди должны были первоначально держаться в определенной, более или менее ограниченной области своего расселения, где существовали наиболее благоприятные для них природные условия.
Распространение древнейшего человека на север и восток Азии встретило затем очень серьезное препятствие в виде наступившего в начале четвертичного периода резкого ухудшения климата и похолодания, с которым связан был ледниковый период.
Во время наибольшего распространения ледников, совпадающего с мустьерским временем (рисский этап ледниковой эпохи), как полагают геологи, существовал также и грандиозный водный барьер, отделявший Европу от северной Азии. Он образовался в результате того, что воды великих сибирских рек были подпружены ледниками, доходившими на западе почти до 60° с. ш., и образовали пролив, соединявший Аральское море с Каспийским бассейном. В результате этого огромная территория нынешней Западно-Сибирской низменности оказалась под водой. Ледники сползали с горных систем Алтая и Саян. Для освоения Сибири человеком древнекаменного периода нужно было, чтобы эти природные препятствия исчезли. Потребовалась, кроме того, полная перестройка всей жизни и культуры древнейшего человечества, чтобы оно смогло, наконец, выйти за пределы своего первоначального расселения и достигнуть сибирских пространств. Нужно было, прежде всего, чтобы возникли новые, более совершенные, чем в среднем палеолите, способы охоты и соответствующая охотничья техника, чтобы люди научились строить специальные жилища для спасения от зимней стужи и ветра, а также запасать пищу на зиму. Нужно было, наконец, чтобы люди создали настоящую шитую одежду, которая позволяла бы им находиться в зимнее время вне своих жилищ и свободно заниматься охотой на животных.
Все это стало возможным только в конце палеолитического времени, в верхнем палеолите археологической периодизации, т. е. не ранее 40- 30 тыс. лет тому назад.
Не удивительно поэтому, что древнейшие бесспорные следы человека в северной Азии, известные в настоящее время, относятся к довольно позднему на фоне всемирной истории человечества этапу. Это был последний, вьюрмский по принятой у геологов терминологии, период ледниковой эпохи. Это было время, когда еще полностью сохранялся своеобразный смешанный животный мир этой эпохи, когда вместе с представителями типично арктической фауны: песцами, леммингами, мускусным быком и белой полярной куропаткой, не говоря уже о северном олене, в обширных пространствах восточной Европы и северной Азии жили мамонт и шерстистый носорог.
На востоке Европы тогда заканчивался ориньяко-солютрейский этап палеолита и начинался новый, мадленский. Этим временем и датируются наиболее ранние, известные сейчас палеолитические памятники Сибири. Верхнепалеолитические местонахождения достаточно многочисленны (около 150 стоянок). Располагаются они почти все в долинах крупных рек. Можно выделить три основные, сравнительно узкие, области распространения верхнепалеолитических стоянок в Сибири: верховья Оби (с центром у нынешнего г. Бийска), верхнее течение Енисея (от Минусинска до Красноярска) и область вокруг Байкала (Ангара с ее притоком Белой, Иркут, Селенга, Онон, верховья Лены). На Лене палеолитические стоянки, открытые в последние годы, доходят до 61° с. ш., что является крайним, известным до настоящего времени северным пределом распространения палеолитического человека не только в Сибири, но и вообще на земле.
Самым ранним по возрасту является найденное в 1871 г. первое палеолитическое поселение, исследованное русскими учеными, стоянка у Военного госпиталя в Иркутске.
Судя по найденным там резным изделиям из бивня мамонта (в том числе крупным кольцам) и орнаментированным поделкам, а также лавролистным наконечникам из камня, палеолитическое поселение у Военного госпиталя относится к концу солютрейского времени.
В 1928 и 1936 гг. на Ангаре были обнаружены еще два палеолитических памятника, пользующихся широкой известностью в науке,- Мальта и Буреть. Оба эти поселения принадлежат одному и тому же времени, несколько более позднему, чем стоянка у Военного госпиталя. По европейским масштабам это скорее всего должен быть ранний мадлен, о чем свидетельствуют характерные «жезлы начальников», проколки мезинского типа, нуклеусы правильной конической огранки, мелкие дисковидные скребки, развитая обработка кости.
Оба эти поселения расположены к востоку от Енисея: Буреть - в самой долине Ангары, на правом ее берегу, у села того же названия, а Мальта - по р. Белой, в с. Мальтинском. Они характеризуются удивительно сходными чертами культуры и быта; чертами настолько близкими, что можно видеть в них последовательные поселения одной и той же древней общины или даже одновременные поселки двух родственных общин, тесно связанных друг с другом. Эта связь тем более вероятна, что оба поселения отделены друг от друга расстоянием не более 3-4 км по прямой линии.
Систематические, крупные по масштабу раскопки в Мальте и Бурети (в Мальте вскрыто около 800 м2, в Бурети - 400 м2) позволяют восстановить эту древнюю культуру и образ жизни ее носителей не только в общих чертах, но и в ряде характерных деталей.
Существенно, прежде всего, то обстоятельство, что палеолитические стоянки Мальта и Буреть представляли собой настоящие поселки, состоявшие из ряда прочных, рассчитанных на длительное использование жилищ. В Бурети найдены, например, остатки четырех жилищ.
Одно из них, лучше и полнее всех остальных сохранившееся, имело углубленное в землю и несомненно специально для того выкопанное прямоугольное в плане основание. Из него вел наружу узкий коридор, выходивший к реке. По краям углубления первоначально были в строгом порядке, симметрично, расставлены бедренные кости мамонта, вкопанные в землю нижними концами и прочно закрепленные внизу для устойчивости плитами известняка. Это были своего рода «столбы» древнего жилища, та конструктивная основа, на которую опирались его стены и крыша. Таких «столбов» в жилище имелось около двенадцати.
Вместе со «столбами» уцелели и остатки каркаса крыши палеолитического жилища. Внутри дома, на самом его полу, оказалось множество рогов северного оленя, несомненно, специально собранных и отсортированных. В ряде случаев рога лежали, перекрещиваясь друг с другом под прямым углом, с определенными промежутками между стержнями и их отростками, образуя как бы сетку. Отсюда следует, что крыша палеолитического жилища в Бурети должна была иметь основу в виде ажурной сетки из рогов оленя, перекрещенных и взаимно сплетенных друг с другом не только обмоткой, но и своими переплетающимися отростками.
В середине жилищ помещались очаги; на полу их были обнаружены различные изделия из камня и кости. По своему типу, планировке и архитектурным признакам жилища Бурети и во всех существенных своих чертах аналогичные им жилища Мальты обнаруживают неожиданно близкое сходство с жилищами оседлых приморских племен нашего северо-востока сравнительно недавнего времени, XVIII-XIX вв. Их сближают: 1) наличие углубления, 2) прямоугольные в плане очертания, 3) вход в виде коридора, 4) употребление в качестве строительного материала костей крупных животных (в одном случае мамонта и носорога, в другом - кита), 5) употребление камней для большей устойчивости столбов, 6) устройство стен жилища из земли, плит и костей (позвонков кита у сидячих чукчей и эскимосов, черепов носорога в Бурети), 7) эластичный и легкий каркас крыши из ребер кита (на чукотских полуподземных жилищах, как и в Бурети, ему соответствовала сетка из переплетенных и связанных ремнями оленьих рогов). Как и крыша валькара, крыша палеолитического жилища должна была сверху иметь вид небольшого, слегка возвышающегося над уровнем почвы земляного холмика.
Размеры жилищ тоже очень близки: площадь чукотского валькара в XVIII в. достигала, как и площадь палеолитических домов Бурети, 25 м2; высота последних тоже была не менее 2-2.5 м.
Очень близок к чукотско-эскимосским прибрежным поселкам и весь характер такого палеолитического поселения в целом. Жилища Бурети, подобно старинным чукотским, располагались на возвышенном месте по нескольку строений рядом, причем выходом все они были обращены к реке, тогда как чукотско-эскимосские точно так же ориентировались выходом к морю.
Столь же определенным является сходство культуры и бытового уклада палеолитических жителей Сибири с бытом позднейших оседлых палеоазиатов нашего северо-востока. Подобно им, палеолитические обитатели Сибири носили глухую одежду из шкур в виде комбинезона с капюшоном на голове, а внутри своих жилищ сидели обнаженными.
Карта палеолитических поселений Сибири
Об этом выразительно свидетельствуют палеолитические статуэтки, найденные в Мальте (20 экз.) и Бурети (5 экз.). В большинстве своем они изображают обнаженных женщин с одной лишь великолепно убранной пышной шевелюрой на голове. Однако в 1936 г. в Бурети была найдена довольно крупная статуэтка, изображающая женщину в шитой одежде с отчетливо выраженным головным убором в виде капюшона, накинутого на голову. Такие же две статуэтки, только лишь миниатюрные и оттого более схематично трактованные, оказались в Мальте. Подобно палеоазиатским племенам и эскимосам, древнейшее, верхнепалеолитическое население жило охотой, имело метательные дощечки и так называемые «жезлы начальников», т. е., по-видимому, орудия для разминания ремней, выделывало реалистически трактованные изображения животных из кости и рога, чтило женских богинь и духов вроде Силлы или Асияк эскимосов.
Однако мнение ряда видных исследователей (Бойд-Даукинс, Г. де- Мортилье, Э. Лартэ, К. Расмуссен) о прямом происхождении эскимосов от древних палеолитических племен Европы - мадленцев не может быть принято в настоящее время.
Общее сходство культуры в данном случае объясняется одинаковым характером естественно-географических условий конца ледникового периода с ныне существующими на Крайнем Севере и соответственной близостью хозяйственно-бытового уклада верхнего палеолита Сибири к укладу палеоазиатских племен и эскимосов XVIII-XIX вв.
Обильная охотничья добыча эпохи палеолита, когда охота на гигантских толстокожих и на табуны северных оленей доставляли не меньше мяса, чем промысел морского зверя в современной Арктике, обусловила прочную оседлость в наиболее удобных для этого местах. Суровые климатические условия ледниковой эпохи с такой же неизбежностью вызывали необходимость строить на Ангаре в палеолитическое время такие же прочные земляные жилища полуподземного типа, какие существовали в Арктике с ее пронзительными ветрами и низкими температурами в XVIII- XIX вв.
Из-за недостатка или полного отсутствия строительного леса людям палеолитической эпохи, как и арктическим племенам нашего времени, приходилось одинаково широко прибегать к заменяющим его иным материалам, особенно к кости, тем более что обилие костей и рогов само по себе наталкивало людей на мысль о применении этого материала в качестве строительного сырья. И, наконец, богатое палеолитическое искусство Сибири позволяет вспомнить о том, как долгая арктическая ночь и жестокие северные ветры, обрекавшие в недавнем этнографическом прошлом сильных и деятельных охотников на вынужденное бездействие, вместе с обилием такого благодарного материала, как клыки моржа, способствовали удивительному развитию орнаментального искусства и мелкой скульптуры у этих жителей глубокой Арктики. То же самое, несомненно, имело место и в Прибайкалье древнекаменного века.
Таким образом, в конце ледникового времени существовала замечательная культура палеолитических охотников восточной Европы и Сибири, которую можно назвать континентальной культурой оседлых арктических охотников верхнего палеолита.
Бесспорное единство древней культуры охотников на северного оленя, мамонта и носорога в Европе и Азии, конечно, имеет в своей основе общие условия их существования. Однако стоянки Военный госпиталь, Мальта и Буреть, самые ранние для северной Азии памятники человеческой культуры, обнаруживают настолько близкое сходство с культурой современных им людей ледниковой эпохи, живших в восточной и западной Европе, что это сходство вряд ли может быть объяснено одной только простой конвергенцией. Следует, впрочем, иметь в виду, что в нашей литературе высказывались и другие мнения, согласно которым культура верхнего палеолита, представляемая находками в Мальте и Бурети, возникла конвергентным путем, независимо от культуры их современников в Европе (М. Г. Левин и О. Н. Бадер).
В Мальте и Бурети встречены совершенно такие же, как в западноевропейских поселениях раннемадленского времени и в одновременных памятниках восточной Европы, мелкие кремневые орудия, изготовленные из тонких пластинчатых отщепов: резцы, режущие острия и, в особенности, разнообразные по форме проколки, в том числе боковые и двойные, столь хорошо известные, напрнмер, из раскопок на Украине, в Мезине.
Как уже говорилось, в глубине Сибири обнаружены также и замечательные памятники первобытного искусства: вырезанные из мамонтова бивня фигурки женщин и птиц, гравированные рисунки, изображающие мамонта, змей, большое количество орнаментированных вещей бытового назначения и тонко сделанных украшений. На Шишкинской скале в верховьях Лены уцелели, наконец, и замечательные изображения живших в верхнем палеолите диких лошадей, напоминавших по своему типу лошадь Пржевальского, а по стилю позднемадленские образцы палеолитической живописи. Там же найдено изображение вымершего быка - бизона.
При всем своем бесспорном своеобразии богатое искусство верхнего палеолита Сибири является как бы прямым ответвлением высокой и своеобразной художественной культуры, расцветавшей в ледниковое время у палеолитических охотников Европы, и при этом не только по сюжетам, но и по мелким специфическим деталям его образцов. Таковы, прежде всего, характерная трактовка и поза женских изображений. Что же касается своеобразия памятников палеолитического искусства Сибири, то оно вполне естественно, если учесть резкое различие хотя бы между находками в Мезине на Украине, с одной стороны, и находками на Дону - с другой. Ясно, что вряд ли менее глубокими могли быть аналогичные различия, отделявшие искусство жителей далекой Восточной Сибири от искусства их современников на берегах Дона или Днепра.
Все это дает основание для предположения, что древнейшие обитатели Сибири проникли к берегам Байкала из восточной Европы в конце ледникового времени, в солютрейское и мадленское время, принеся сюда и свою оригинальную культуру арктических охотников верхнего палеолита.
С течением времени, однако, в жизни и культуре древнейшего населения Сибири, а также, очевидно, и в его составе, происходят глубокие перемены. Перемены эти были настолько глубоки и серьезны, что можно было бы признать их результатом полного перерыва культурно-этнической традиции, если бы этому не противоречили факты, доказывающие также и наличие некоторой преемственности культуры позднего палеолита Сибири от более ранней, времени Мальты и Бурети.
В позднепалеолитическое время, к которому относятся такие памятники, как Афонтова гора на Енисее, Верхоленская гора у Иркутска на Ангаре, Ошурково, Няньги и Усть-Кяхта на Селенге, Макарово, Шишкино, Нюя, Мархачан и другие поселения на Лене, численность древнего населения Сибири сильно возрастает. Об этом свидетельствует общий рост числа поселений к концу палеолита. Они насчитываются теперь уже не единицами, а десятками. Столь же резко расширяется и область, освоенная человеком. Люди заселяют долины важнейших сибирских рек в их южной части - Амура, Селенги, Енисея, Ангары и Лены; расселяются на Алтае, где ранее лежали сплошные льды глетчеров. В долине Лены они спускаются до Олекминска и Марха- чана - севернее всех остальных палеолитических стоянок Европы и Азии.
Такое широкое расселение палеолитического человека происходит на фоне значительных изменений в природной обстановке, окружающей древних жителей Сибири.
Одна из наиболее ранних стоянок позднего палеолита, Афонтова гора, отличается от более древних только отсутствием костей шерстистого носорога. В остальном фауна Афонтовой горы очень близка к фауне Мальты и Бурети. Здесь имеются кости мамонта, северного оленя, песца, дикой лошади и ныне живущих в этих местах зверей: косули, лисицы, россомахи, медведя, зайца и др.

Изображение мамонта на пластинке из бивня мамонта. Мальта
Подсчет числа особей, характерных для различных климатов и ландшафтов, показал, что 24% из найденных на Афонтовой горе животных относятся к числу глубоко северных форм (песец), 12% являются теперь обитателями умеренного климата (благородный олень, косуля, сайга, лошадь), остальные свойственны обеим климатическим зонам. Подсчет по ландшафтам показал преобладание тундровых и степных форм. Их оказалось 37% (песец, мамонт, лошадь, сайга), а лесных только 7% (россомаха, благородный олень, косуля, медведь); остальные водятся как в лесу, так и в открытой местности (северный олень, лисица, заяц и др.). Позднепалеолитические (позднемадленские) стоянки в долине Енисея (Переселенческий пункт около Красноярска, Кокорево-Забочка и Киперный лог, Бирюсинские местонахождения) и современные им памятники в долине Ангары (Олонки, Усть-Белая), а также в долинах Лены и Селенги приурочены к позднейшим, первым надпойменным террасам, высотой 6- 12 м. Культурные остатки залегают здесь в толще аллювиальных отложений, причем ни изделий из бивня мамонта, ни костей этого животного в числе кухонных остатков больше уже не встречается. Отсюда следует, что не только носорог, но и значительно дольше его проживший мамонт уже вымерли. Одновременно здесь исчезает и другой характерный представитель древней фауны вюрмской ледниковой эпохи, т. е. конца ледникового времени, - полярная лисица, песец. На смену им приходят лесные животные. На стоянке Ошурково, например, вместе с костями быка- бизона и северного оленя найдены кости благородного оленя и кабана, типично лесных животных. Климат стал, очевидно, несколько теплее и был уже не таким влажным, как в предшествующее время. Начинается новая, послеледниковая, эпоха.
Еще более значительные изменения наблюдаются в культуре и бытовом укладе жителей палеолитических поселений Сибири. Прежние поселки, состоящие из ряда прочных долговременных жилищ, исчезают. Поселения имели вид временных охотничьих лагерей, состоявших из немногих надземных жилищ, от которых никаких других следов, позволяющих восстановить их форму и устройство, кроме очагов, не сохранилось. Очаги имеют вид кольцевидных выкладок из плит, поставленных ребром. Диаметр их не превышает метра (около 60-70 см). Подобные сооружения найдены, например, на Енисее (стоянка Забочка) и в долине Лены, у дер. Макарово. Около очагов обычно рассеяны сравнительно немногочисленные каменные орудия, отщепы и кости животных. Сами жилища, всего вероятнее, имели форму, близкую к современным коническим шатрам, чумам или ура- сам, состоящим из тонких жердей, образующих каркас постройки, и легкой покрышки, сшитой из звериных шкур или бересты.
Изменения в общем характере поселений и устройство жилищ должны быть поставлены в прямую связь с общими переменами в природе и хозяйственно-бытовом укладе первобытных охотников Сибири. Исчезновение гигантских травоядных животных ледниковой эпохи, гибель носорога и мамонта не могли не вызвать значительных перемен в жизни древних племен. Почти неисчерпаемые прежде запасы мясной пищи стали иссякать.
Чтобы существовать охотой на одних только более мелких, чем мамонт и носорог, животных, потребовалось перейти к более подвижному образу жизни и к новой, более маневренной, чем прежде, охотничьей тактике. Кочуя с места на место вслед за стадами северных оленей, табунами лошадей и диких быков, позднепалеолитические охотники не могли уже строить многолюдные общинные поселки и воздвигать крупные коллективные жилища. На месте их более или менее временных остановок оставалось в лучшем случае несколько очагов, выложенных из камня, подобно таким же каменным выкладкам на стоянках позднейших оленеводческих племен Сибири. Не исключено, что немаловажное влияние на изменение характера жилищ имел также и общий переход от сурового ледникового климата к более мягкому послеледниковому, когда исчезла необходимость в полуподземных жилых помещениях, тщательно укрытых от пронизывающего ветра тундры. Такие жилища типа землянки, как мы увидим дальше, сохранились в Сибири только у рыболовов, постоянно обитавших на одном месте.
Столь же глубокой была перемена в материальной культуре, в производственном инвентаре из камня. Перемена эта нашла свое выражение как в типах орудий, в их формах и размерах, так и в основных чертах техники обработки камня, в способах и приемах изготовления каменных орудий. Если сначала, в ту отдаленную эпоху, когда на Ангаре и Лене существовали обширные поселения полуоседлых охотников на мамонта и носорога, каменный инвентарь их обитателей имел много общего с обычным для восточной и западной Европы верхнепалеолитическим инвентарем, то теперь облик каменных орудий неожиданно и резко изменяется. Вместо изящных проколок с кривыми или прямыми тонкими остриями, миниатюрных скребочков, тонко ретушированных пластинчатых лезвий и мадленских резцов различных форм распространяются крупные, массивные и тяжелые вещи, столь же грубые на первый взгляд, как и единообразные по типу, изготовленные преимущественно из речных галек.
Все это, в сущности, только частные варианты одного и того же, с удивительным постоянством повторяющегося изделия: полулунного по форме или близкого по очертаниям к овалу массивного скребла, оформленного вдоль крутого рабочего края резкой ретушью с длинными и широкими фасетками. Иногда, впрочем, такие изделия имеют прямой рабочий край, в некоторых же, правда, очень редких случаях, даже слегка вогнутый. Часть их обработана только с верхней стороны, а некоторые и с двух сторон, но эти отличия не столь характерны и не так уже часто встречаются.
В общем же, благодаря своей оригинальной форме и специфической, напоминающей мустьерскую контрударную технику, обработке рабочего края, такие изделия производят крайне своеобразное впечатление. Впечатление это усиливается тем, что среди бесчисленных серий скребловидных инструментов этого рода, напоминающих мустьерские, обнаруживаются широкие массивные острия, обработанные такой же крутой ретушью по краям и по форме сходные с мустьерскими остроконечниками.
Остроконечники из палеолитических стоянок Сибири сближаются с мустьерскими также и тем, что материалом для их изготовления служили широкие пластины, снятые с типичных широких нуклеусов дисковидной формы - совершенно мустьерского облика.
Архаический облик инвентаря этих стоянок является настолько определенным и резким, что прежние исследователи выделяли в нем не только мустьерские, но даже и нижнепалеолитические элементы. Двусторонне обработанные массивные орудия овальных очертаний описывались ими как «бифасы», т. е. как ближайшая аналогия рубилам агаельского или даже шелльского времени. Исходя из наличия архаических форм каменных изделий и соответственной архаической техники, они сначала отнесли позднепалеолитические изделия, найденные И. Т. Савенковым на Енисее, к чрезвычайно глубокой древности и датировали если не начальной, то, во всяком случае, очень ранней порой палеолита: ашелем и мустьерским временем. Однако сам И. Т. Савенков определенно указывал, что вместе с вещами из камня, напоминающими по типу мустьерские или даже ашельские, в его коллекциях есть вещи весьма позднего для палеолита облика, например резцы, различные пластинчатые острия и мелкие скребочки.
Он обращал внимание археологов и на то, что здесь встречаются превосходно оформленные костяные изделия: наконечники дротиков, украшения, иглы и шилья.
Так перед исследователями встала новая и чрезвычайно интересная загадка: как объяснить столь необыкновенное сочетание древних в типологическом отношении предметов и новых по типу вещей, которые на западе разделены во времени десятками тысячелетий, а на Алтае, в долинах Лены, Енисея и Ангары залегают рядом, в одном и том же культурном слое, в инвентаре одного и того же верхнепалеолитического поселения.
Решение этой проблемы пытались найти в различных направлениях. Одни исследователи (Г. П. Сосновский, А. П. Окладников) стремились в 1930-х годах вывести позднепалеолитическую культуру Сибири прямым эволюционным путем из более древней, т. е. из мальтинско-буретской, культуры и видели в переходе от одной культуры к другой выражение непрерывного эволюционного подъема древних сибирских племен от низшей ступени культуры к высшей.
Другие исследователи (Л. Савицкий, Н. К. Ауэрбах) хотели видеть здесь только выражение прямого влияния на культуру палеолитического населения Сибири культур глубинной Азии, в частности палеолита Монголии и Китая.
Была высказана и третья точка зрения (В. И. Громов), согласно которой своеобразие каменных орудий, характерных для сибирского палеолита, зависит от грубого материала, находившегося в распоряжении местного населения. Из-за отсутствия в Сибири такого превосходного материала для изготовления каменных орудий, каким является, например, на Дону меловой камень, местные мастера вынуждены были довольствоваться таким грубым материалом, как черный лидит в Забайкалье или гальки зеленокаменных пород на Енисее и на Алтае. В результате, полагали сторонники такого взгляда, здесь не могло развиться производство изящных и тонких пластин, служивших основой для совершенного по тем временам мастерства обработки камня приемами отжимной ретуши. Эта точка зрения не может быть принята по той причине, что позже, в неолитическое время, на территории Сибири существовала вполне развитая и не менее, если не более, совершенная, чем в Европе, неолитическая техника обработки камня; были не менее развиты, в частности, приемы отжимной ретуши, применявшиеся при этом часто на том же «грубом» материале, которым пользовались палеолитические мастера. Таким образом, не материал, а потребности человека определяли и технику изготовления орудий, и их формы и даже выбор самого материала.
Но какие именно это были потребности?
Вытекали они из эволюционной инерции, из сложившихся тысячелетиями традиций? Или же, напротив, причина лежала в том, что на смену старому населению пришло новое, с иными, чем прежде, традициями, с иными, чем прежде, привычками и склонностями? Однако обе эти точки зрения, одинаково имевшие под собой некоторые весьма веские фактические основания, встретили при более тщательном учете фактов и существенные возражения.
Против первой гипотезы свидетельствует то обстоятельство, что в действительности невозможно прямым эволюционным путем вывести из инвентаря и специфической отжимной техники обработки камня Мальты и Бурети типы орудий и технику их изготовления, характерные для стоянок последующего времени. Совершенно непонятно, например, как мог из более совершенного призматического нуклеуса эволюционно вырасти нуклеус более древнего дисковидного типа или из концевого скребка - несравненно более грубое скребло мустьерского типа. Что касается второй точки зрения, то за нее свидетельствовало большое и реальное сходство в каменных орудиях и в технике их изготовления между палеолитом Сибири, с одной стороны, и палеолитом восточной Азии - с другой. Но при всем том в палеолите восточной Азии все же нигде не было констатировано таких специфических и характерных для сибирского палеолита вещей, как листовидные наконечники или овальные скребла, как костяные плоские гарпуны. Все это явно развилось в Сибири самостоятельно, на месте. И все это, вместе взятое, свидетельствовало, что положение в действительности было значительно сложнее, чем думали раньше. Ясно было, что неправы были как сторонники прямолинейного эволюционного развития, предполагавшие, что характерное для позднего сибирского палеолита «смешение» разновременных или разностадиальных элементов материальной культуры свидетельствует о наличии особенно древних архаических пережитков в культуре местных племен, о их глубокой консервативности, о том, что они гораздо сильнее и крепче, чем их современники на Западе, сохраняли элементы техники отдаленного нижнепалеолитического прошлого, так и их противники, сводившие все только к столкновению различных культурно-этнических групп. Последние тоже, в сущности, развивали одинаковую точку зрения о наибольшей отсталости племен сибирского палеолита по сравнению с европейскими племенами, только изложенную еще более определенно, в еще более заостренной и даже тенденциозной форме. Согласно этой точке зрения, наиболее полно и отчетливо формулированной А. Брейлем относительно палеолита Китая, глубинная Азия рассматривается как страна, где изначально консервировались древние формы, как страна застоя и инерции, в отличие от Европы, где культура всегда бурно шла вперед.
Нетрудно увидеть, что в такой формулировке этот взгляд не только поверхностен, не только несправедлив, но и прямо оскорбителен по отношению к народам Азии, выражает империалистическую в основе концепцию, опровергнутую всей историей азиатских народов и, в первую очередь, великого китайского народа.
На самом деле, более глубокое и объективное изучение памятников сибирского палеолита, как и палеолита восточной Азии, показывает, что здесь наблюдается лишь резко своеобразный и при этом, безусловно, прогрессивный путь развития азиатских племен глубокой древности, к которому нужно подходить с иными классификационными мерками и рубриками, с иными оценками, чем к палеолиту западной или восточной Европы, с точки зрения своеобразия его исторического пути и оригинальности вклада древнейшего населения северной и восточной Азии в культуру каменного века.
Рассматривая типы Каменных изделий из сибирских палеолитических памятников не в статике, а динамически, в их развитии, нетрудно увидеть, что из первичных недостаточно еще оформленных по типу крупных скребловидных изделий, характерных для таких поселений, как Мальта и Буреть, постепенно вырабатываются четкие по форме и законченные по их техническим особенностям орудия «архаических» форм, о которых говорилось выше. Кроме того, если эти крупные вещи сначала были представлены только относительно немногочисленными образцами, то с течением времени количество их неуклонно увеличивается, пока они не достигают, наконец, более или менее значительного преобладания над каменными орудиями иного рода. В инвентаре позднепалеолитического поселения Сибири налицо, следовательно, не технические традиции нижнего и среднего палеолита - реликты глубочайшего прошлого, а признаки новообразования, налицо - свидетельства не застоя и отсталости, а какого-то бурного и неудержимого развития и при этом развития крайне своеобразного, не укладывающегося в обычные рамки западноевропейских классификаций.
Причину такого своеобразного развития следует, по-видимому, искать в области тех жизненно важных потребностей первобытных охотников, которые обслуживались данными видами орудий. Орудия эти вряд ли могли употребляться для каких-либо работ, связанных с обработкой мягких материалов, в том числе меха и кожи. Они стоят ближе всего к орудиям для обработки дерева, так как обладают массивным и прочным лезвием, пригодным для рубящих и строгающих операций. О том, что источник развития каменного инвентаря сибирского палеолита в характерном для него направлении находится именно здесь, в потребностях техники и хозяйства, свидетельствует наличие среди позднепалеолитических орудий из Сибири настоящих топоровидных или тесловидных изделий, зарегистрированных как на Алтае, Енисее, Ангаре, за Байкалом, так и на Лене. В недрах собственно палеолитической еще по характеру техники здесь шел, следовательно, прогрессивный процесс оформления крупных рубящих орудий нового типа, тех орудий, которые превратились затем в настоящие топоры и тесла зрелой культуры неолитической эпохи.
Одновременно в Сибири раньше, чем во многих других местах, складывается и достигает расцвета своеобразная вкладышевая техника изготовления орудий труда и предметов вооружения. На стоянках Верхоленская гора у г. Иркутска и Ошурково около г. Улан-Удэ обнаружены, например, превосходные костяные острия с глубокими пазами для острых кремневых пластин. Изделия такого рода сочетали, следовательно, гибкость и эластичность кости и рога с прочностью и твердостью кремня; они имели в результате неоспоримое преимущество как над простыми каменными наконечниками и ножами, так и над костяными изделиями без вкладных каменных лезвий.
Не позже, если не раньше, чем в других странах, появляется в Сибири и первое домашнее животное охотничьих племен - собака.
Относительно рано начинается в Сибири и достаточно широкое использование в пищу рыбы: на Ангаре в Верхоленской горе и на Селенге в Ошурково найдены превосходно изготовленные из рога благородного оленя гарпуны азильского типа. На стоянке Ошурково вместе с таким гарпуном оказались многочисленные кости рыб, свидетельствующие, что охота на рыбу занимала важное место в хозяйстве обитателей этой стоянки.
Однако в процессе такого прогрессивного развития на конкретных формах, в которых происходила эволюция культуры, отразилась и та конкретно историческая обстановка, в которой веками жили сибирские племена древнекаменного века, сказались те конкретно исторические события, которые происходили в этой части Азии.
Тот факт, что культура древнейшего населения Сибири сначала развивалась в одинаковых формах и в том же направлении, как и культура их современников на Западе, в бассейнах Дуная, Днепра, Дона и Волги, а затем как бы круто повернула в своем развитии в другую сторону, безусловно не случаен и имеет важное значение в истории Европы и Азии.
Его можно объяснить тем, что племена Сибири сначала жили одинаковой жизнью с племенами Запада, находились в связи с ними и имели единую в основе культуру. Затем, уже к самому концу ледниковой эпохи, немноголюдные, широко рассеянные на колоссальных пространствах Сибири в процессе ее освоения, они утратили непосредственную связь с населением западных стран и, обособленные от них, на протяжении длительного времени стали жить своей особой жизнью, создали новую, существенно отличную во многих отношениях культуру.
Ярким и наглядным проявлением такого своеобразия являются отмеченные особенности в технике изготовления и формах (типах) каменных изделий, обслуживавших хозяйственные потребности палеолитического человека. В то время как на Западе в конце палеолита шел процесс развития так называемой микролитической техники, когда необходимые орудия выделывались преимущественно на рассеченных определенным образом на части ножевидных пластинах, в Сибири основным приемом оформления заготовок каменных орудий было раскалывание крупных галек на две части или снятие больших пластин с поверхности нуклеусов архаического дисковидного типа, похожих на мустьерские.
Одновременно, в условиях обособленного существования на колоссальных по протяжению территориях Сибири и Дальнего Востока, здесь складывается, очевидно, и особый физический тип местного населения. В верхнем палеолите, как полагают антропологи, возникают основные расовые группы современного человечества: негроиды в Африке и соседних районах Средиземноморья, а также в юго-восточной и южной Азий, европеоиды в Европе и, наконец, монголоиды к востоку от Урала. В то время как местные остатки верхнепалеолитического человека, обнаруженные в Европе, преимущественно относятся к древнему европеоидному типу, кроманьонскому (в широком смысле этого слова), новые археологические и антропологические данные указывают на существование у древних насельников восточных районов Азии определенных монголоидных черт уже в очень раннее время. Одна статуэтка женщины, найденная в 1936 г. в Бурети, имеет тщательно моделированное лицо с отчетливым монголоидным отпечатком. Оно обладает узкими характерно скошенными глазами, низким, как бы расплывшимся носом и выпуклыми скулами.
Из палеолитических слоев Афонтовой горы у Красноярска происходят обломки костей рук и фрагмент черепа, обломок лобной кости, найденный в 1937 г. Последняя находка была изучена Г. Ф. Дебецом. Морфологические особенности фрагмента (резкая уплощенность переносья) указывают на монголоидные особенности и позволили Дебецу высказать утверждение, что верхнепалеолитическое население Афонтовой горы относилось к монголоидному, в широком смысле слова, расовому типу.
Таким образом, те скудные данные, которыми располагает в настоящее время палеоантропология, как будто указывают на принадлежность палеолитического населения Прибайкалья и среднего Енисея к монголоидному расовому типу. Здесь могло сказаться соседство с теми областями восточной и Центральной Азии, где, по мнению советских антропологов, возникает монголоидный расовый тип. Нельзя не отметить в связи с этим, что на всей территории Монгольской Народной Республики может быть прослежено развитие культуры ее позднепалеолитического населения в том же основном направлении, что и в Сибири. Поэтому всю эту огромную территорию в позднем палеолите можно смело назвать сибирско-монгольской культурной областью.
Однако, учитывая единичность и фрагментарность находок, было бы рискованно относить все сказанное выше о физическом типе древних жителей Сибири ко всей ее территории, взятой в целом. Вполне возможно, что население других районов, в частности Алтая и Минусинской котловины, уже в палеолите относилось по своему антропологическому типу не к монголоидному, а к европеоидному кругу форм. В пользу такого предположения говорят, как увидим дальше, материалы по палеоантропологии более поздних эпох.
В целом же конец верхнепалеолитического времени является, пови- димому, той важнейшей исторической ступенью в прошлом народов Сибири и нашего Дальнего Востока, когда их предки впервые выделяются из всего остального человечества как обладатели особого физического типа и специфической по характеру культуры.
Это был второй крупнейший этап в древней истории Сибири.
Третий этап последней совпадает с временем распространения новых неолитических памятников.
Древнейшая и самая длительная эпоха в истории человечества — палеолит (древний каменный век). По времени она совпадает с таким геологическим периодом в истории Земли, как плейстоцен. Начало палеолита очень трудно идентифицировать, т.к. оно связано с длительным процессом выделения человека из мира природы (антропогенезом) — феноменом, причины которого до сих пор не нашли однозначного объяснения в науке. Процесс антропогенеза начался очень давно (около трех миллионов лет назад). За огромный промежуток времени во внешнем облике, мыслительной и орудийной деятельности, поведении человека, его общественной организации произошли кардинальные изменения.
Заселение Западно-Сибирской равнины . В целом оно происходило неравномерно: отдельные территории (Горный Алтай, Кузнецкая котловина) были заселены уже в эпоху нижнего палеолита. Чем ближе к современной геологической эпохе (голоцену), начавшейся примерно 10 тыс. л. н., тем больше климат и природные условия Западно-Сибирской равнины напоминали современные. Сюда устремились многие животные, в том числе, разумеется, мамонт и бизон — одни из главных промысловых видов того времени. Вслед за ними на север, в новые для себя районы, двинулся и человек. Таким образом, в центре Западно-Сибирской равнины, по сравнению с ее ближайшим окружением (например, с Горным Алтаем), человек появился относительно поздно — в конце эпохи палеолита. Это был уже человек современного антропологического типа, со сложным и развитым комплексом материальной культуры, разнообразными трудовыми навыками и удивляющей исследователей своей глубиной и богатством духовной жизнью. Главная причина относительно позднего заселения Западно-Сибирской равнины кроется в геологических особенностях данного региона. Здесь практически полностью отсутствовало качественное каменное сырье, пригодное для изготовления орудий труда. Все основные типы орудий в то время изготавливали из кремня или близкого к нему по качеству камня-яшмы, обсидиана ил и кремнистого сланца. Люди пользовались теми небольшими запасами камня, который они принесли с собой с окружающих территорий (либо с Урала, либо из Северного Казахстана), или кварцевым галечником, из которого тоже можно было изготавливать небольшие орудия. Особенно сильно отсутствие сырья чувствовалось на территории Обь-Иртышского междуречья.
О том, насколько ценными для людей были каменные орудия, можно судить по следующему факту: сломанный инструмент не выбрасывали, а из обломков изготавливали новое, но более мелкое орудие.
Долгое время в археологической литературе была распространена точка зрения, основанная на предположениях некоторых геологов, о том, что главной причиной относительно позднего освоения человеком Западносибирского региона было его затопление огромным древним озером-морем, образовавшимся вследствие запруды ледниковым панцирем на севере стока западносибирских рек. Исследования геологов и археологов последних десятилетий на различных палеолитических стоянках Западно-Сибирской равнины (с точной фиксацией контекста расположения и радиоуглеродными датировками) позволили заключить, что такого огромного озера-моря просто не существовало (иначе некоторые стоянки должны были бы находиться на глубине более 100 м). Однако вопрос о существовании древнего озера-моря, покрывавшего Западно¬Сибирскую равнину в эпоху верхнего палеолита, остается дискуссионным.
Остановимся на фауне Западной Сибири эпохи палеолита. Совокупность видов животных, окружавших верхнепалеолитических охотников называется фаунистическим комплексом. Наиболее типичными представителями верхнепалеолитического фаунистического комплекса Западно-Сибирской равнины являлись мамонт, северный олень, медведь, бизон и шерстистый носорог. Все эти животные были промысловыми видами для древних охотников, которые использовали их мясо в пищу, а шкуры и кости для других целей. Конечно, наиболее впечатляющим видом данного комплекса были мамонты. Судя по останкам, обнаруженным на некоторых стоянках (Волчья Грива, Шестаково), доля костей мамонта превышает 90% всех костей животных. О мамонтах современной науке известно уже очень многое. Эти данные получены не только на основании анализа тысяч разрозненных костей и многих десятков более или менее целых скелетов мамонта, но и при изучении целых туш, которые не раз находили в слое вечной мерзлоты на севере Сибири. Туши этих животных порой настолько хорошо сохраняются в мерзлоте, что местные собаки с удовольствием едят их замороженное в естественном «холодильнике» мясо. Проблема состоит лишь в том, чтобы оттаявшую в далекой тундре тушу мамонта вовремя (до ее разложения и поедания дикими животными) обнаружили специалисты и доставили в лабораторию для изучения.
Удача сопутствовала российским ученым несколько раз. Так, в 1910 г. останки одного из таких мамонтов были привезены экспедицией Академии наук с севера Якутской области. Их тщательно изучили палеонтологи. Толстый слой подкожного жира и густая шерсть защищали мамонта от полярной стужи. Желудок его был набит остатками осоки, едкого лютика и других видов полярных трав и мелких кустарников.
Для мамонтов характерна массивная голова, крутой горб над передними лопатками и огромные бивни (т.е. резцы), нередко со спирально загнутыми верхушками. Длина бивня достигала иногда четырех метров, а вес пары бивней — около 300 кг. Туловище мамонта сплошь покрывала густая шерсть черно-бурого или рыжевато-бурого цвета, особенно пышная по бокам. С плеч и груди свисала густая и длинная рыжая шерсть. Шкура, снятая с животного, заняла бы примерно 30 м2. Вес костей мамонта (без бивней) составлял 1,5 т, а вес туши доходил до 5 т. Мамонты были превосходно приспособлены к условиям арктической природы того времени. На примыкавших к сплошному ледяному щиту пространствах, напоминавших по своим ландшафтным характеристикам современную тундру, они находили обильную пищу (травы и кустарники). По подсчетам специалистов, в день мамонт поглощал до 100 кг растительной пищи.
Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. К настоящему времени на данной территории известно более тридцати палеолитических местонахождений. Это значительно меньше, чем на прилегающих к равнине территориях.
Большинство стоянок относится к позднему палеолиту. Исходя из имеющихся на сегодняшний день радиоуглеродных дат, позднепалеолитические местонахождения Западно-Сибирской равнины можно разделить на три условные группы.
Раньше всех — в 1896 г. — на территории г. Томска была открыта Томская стоянка. Она была случайно обнаружена зоологом Н.Ф. Кащенко благодаря находкам крупных костей мамонта. Н.Ф. Кащенко обратил внимание на наличие в почве угольков и следов воздействия огня. Он понял, что обнаружена стоянка древнего человека, и начал ее раскопки, которые провел настолько тщательно, что до сих пор они считаются образцовыми. Были составлены планы раскопа, зафиксирована глубина залегания находок, взяты на анализ и сохранены все интересующее исследователя образцы. По уголькам определен возраст стоянки -18,3 ± 1 тыс. лет. Н.Ф. Кащенко на площади 40 м2 собрал 200 мелких кремневых орудий и кости одного мамонта. Исследователь пришел к следующим выводам: 1) стоянка была кратковременной (несколько дней); 2) был убит один мамонт, часть которого съедена на месте; 3) охотники ушли, захватив с собой отдельные части туши; 4) основная часть мамонта осталась неразделанной (она лежала на левом боку).
Стоянка Шикаевка II находится в Курганской области на берегу озера в бассейне р. Тобол. Ее радиоуглеродная дата — 18 050 ± 95 л.н. Здесь были обнаружены два почти полных скелета мамонтов, а также кости волка, сайги и северного оленя. На памятнике найдены 35 орудий, изготовленных из яшмы и предназначенных для резания. Все свидетельствует о том, что стоянка была временной. Существуют две трактовки этого памятника. По одной из них, мамонты были найдены мертвыми и замерзшими, а люди сняли при помощи орудий с них шкуры и ушли. По второй трактовке, мамонты были убиты; с них сняли шкуры и часть мяса.
В Томской области обнаружена стоянка Могочино I. Она была перекрыта слоями толщиной до 8 м. Здесь обнаружены кости мамонта, лошади, северного оленя, шерстистого носорога и других животных. В ходе раскопок найдено более 1,3 тыс. изделий из камня (нуклеусы, резцы, скребки и др.). Исследователи полагают, что это место недолговременной стоянки. Ее возраст, определенный по каменным изделиям, равен 16-17 тыс. лет. Возможно, стоянка более древняя, поскольку радиоуглеродная дата по кости мамонта составляет 20 150 ± 240 л.н.
Одной из наиболее полно изученных на сегодняшний день является стоянка Шестаково. Расположена она в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, на правом берегу р. Кии (приток р. Чулым). Общая площадь раскопа составила 680 м2. С нижней частью разреза связаны многочисленные остатки мамонтовой фауны и находки верхнепалеолитического времени (различные орудия, нуклеусы, сколы). Судя по всему, человек проживал на этом месте длительное время. Для различных культурных горизонтов памятника имеется значительное количество дат — от 25 660 ± 200 л.н. до 18 040 ± 175 л.н. Местонахождение Луговское представляет собой скопление останков плейстоценовых млекопитающих. Оно расположено вблизи с. Луговского, в 30 км к западу от г. Ханты-Мансийска. Здесь на гриве, которую пересекает ручей, обнаружено более 5 тыс. костей мамонтов, шерстистых носорогов, лошадей, бизонов, северных оленей и волков. Количественно преобладают кости мамонта (более 98%). Вместе с костями обнаружено 300 каменных изделий. Возраст местонахождения — 10 — 30 тыс. лет.
Памятник Волчья Грива находится в Каргатском районе Новосибирской области. Он был открыт в 1957 г. местными жителями и исследовался палеонтологами и геологами. Археологические раскопки проводились в 1967 и 1968 гг. под руководством А.П. Окладникова. В 1975 г. памятник исследовал В.И. Молодин, а с 1991 г. — В.Н. Зенин. Памятник разновременный: от 17 800 ± 100 до 11 090 ± 120 лет. При раскопках найдены большие скопления костей животных. Они принадлежали примерно пятидесяти особям мамонтов и одной дикой лошади; встречены единичные кости бизона и волка. Часть костей имеет следы деятельности человека, многие осколки могли служить орудиями труда.
В первый год раскопок не были найдены кремневые орудия, поэтому А. П. Окладников даже говорил о специфическом для этой территории «костяном палеолите». На второй год исследований среди костей обнаружили два мелких кремневых отщепа. Это говорило о том, что население кремень знало, но кремневые орудия, судя по всему, были в большом дефиците и очень ценились. Сейчас коллекция составляет 37 изделий из камня, половину из них составляют орудия. А.П. Окладников полагал, что здесь археологи имеют дело с крупным поселением палеолитического человека. Дальнейшие раскопки памятника затруднены тем, что над ним расположилось современное село.
На поселении Черноозерье II раскопки проводились в 1968 — 1971 гг. В.Ф. Генингом и В.Т. Петриным. Памятник находится на берегу Иртыша в Саргатском районе Омской области. Культурный слой стоянки делится стерильными прослойками на три горизонта, что свидетельствует о неоднократном прекращении и возобновлении жизни на поселении. В процессе исследования обнаружены каменные орудия, выявлены остатки жилищ с крупными округлыми очагами. Одно прямоугольное жилище имело площадь 10 м. В его центре находилась овальная яма-очаг. Всего на территории стоянки вскрыто 11 очагов, многие из которых отапливались костями. Найдены орудия, изготовленные из кварцевого галечника. Каменные орудия всех горизонтов чрезвычайно близки между собой и представлены скребками и пластинами. Особо выделяются площадки, на которых изготавливали орудия. Обнаружены осколки костей различных животных (лося, быка, лошади, лисы, зайца) и рыб. Кости мамонта здесь не были обнаружены. Поселение, по мнению геолога С.М. Цейтлина, датируется в пределах 10,8 — 12 тыс. л.н. Для данного памятника имеется и радиоуглеродная дата — 14 500 ± 500 лет.
Поселение Черноозерье II дало исключительно интересные находки. Здесь обнаружены предметы искусства — пока единственные для палеолита Западной Сибири. Это остатки двух костяных диадем с зашлифованной лицевой поверхностью. В них просверлены сквозные отверстия для крепления к головному убору. По краям диадемы орнаментированы зигзагообразной линией. Великолепным образцом косторезного искусства является кинжал. На его гранях имеются пазы для кремневых вкладышей. В центральной части нанесена продольная линия, выполненная из вплотную примыкающих друг к другу лунок и трех ромбов.
Исключительно интересен памятник Венгерово-5 в Новосибирской области на берегу р. Тартас. Исследования здесь проводились под руководством В. И. Молодина. При раскопках более позднего грунтового могильника была обнаружена яма глубиной около 2 м. Она была заполнена костями и черепами бизонов, лежавшими вперемежку с каменными орудиями. На самом дне найдены кости и чешуя рыбы. Заполнение ямы было разделено стерильными слоями. Очевидно, яма использовалась периодически. В.И. Молодин предположил, что яма не имела хозяйственного назначения и, скорее всего, является остатками древнего святилища. Памятник синхронен стоянкам Черноозерье II и Волчья Грива.
Культурно-хозяйственная характеристика палеолита Западно-Сибирской равнины.
Полученные в последние годы материалы позволяют предположить, что заселение Западно-Сибирской равнины началось с южных и юго-восточных регионов 100 — 120 тыс. л.н., а возможно, еще раньше. Оно шло со стороны Алтая, Казахстана и, вероятно, из Средней Азии. Завершился период палеолита 10-11 тыс. л.н.
Самой молодой стоянкой этой эпохи является Черноозерье II. Ее можно считать переходной к мезолитическому периоду.
Период верхнего палеолита — это время проникновения человека в центральную и юго-западную часть Западно-Сибирской равнины. Люди, занимавшиеся охотой, пришли сюда вслед за животными, переместившимися из районов горного обрамления. Этими животными были мамонт, бизон, дикая лошадь и др. Очевидно, первоначально люди приходили сюда на непродолжительное время. Постоянно жить в Западной Сибири было трудно из-за отсутствия доброкачественного каменного сырья для изготовления орудий, а совершать экспедиции за ним из постоянных мест обитания пока еще было невозможным. Поэтому охотники выбирали себе удобный участок и неоднократно селились на определенный период, построив тут жилища с очагами. Примером этому является памятник Черноозерье II, культурный слой которого прерывался стерильными прослойками. Не исключено, что приходилось уходить из-за весенних паводков. Именно поэтому все найденные палеолитические стоянки делятся на две группы: 1) кратковременные стоянки, где люди жили всего несколько дней; 2) места, где люди периодически занимались хозяйственной деятельностью, временами полностью покидая стоянку, а затем возвращаясь.
Население занималось охотой, главным образом на крупных животных. Но, судя по костным остаткам, также употребляли в пищу зайцев, сайгаков и др. В конце верхнего палеолита люди занимались и рыбной ловлей (среди остатков появились рыбьи кости и чешуя). Безусловно, древнейшее население Западной Сибири могло заниматься и собирательством, однако археологических подтверждений этому пока нет.
На территории России верхнепалеолитические погребения открыты на ряде памятников, но на территории Западно-Сибирской равнины они пока неизвестны. Отсутствие погребений не дает нам возможности судить об антропологических особенностях населения Западной Сибири в эпоху палеолита.
МЕЗОЛИТ
К употреблению термина мезолит (средний каменный век) в археологии нет однозначного отношения. Некоторые ученые считают неправомерным выделение этого этапа в развитии древних культур Сибири и Дальнего Востока, поэтому в их периодизациях вслед за финальным этапом позднего палеолита сразу следует неолит. Другие исследователи (Л. П. Хлобыстан) считают, что плейстоценовые (палеолитические) культуры сменили голоценовые, т.н. эпипалеолитические культуры. Эпипалеолит — это уже не палеолит, а то, что непосредственно за ним следовало, сохраняя черты палеолитических культур.
Не вдаваясь в дискуссию по этому поводу, поясним, что, выделяя мезолит как отдельный период в археологии Западно-Сибирской равнины, мы опирались именно на комплекс признаков, включая признаки собственно археологические (например, характер каменной индустрии). Под мезолитом Западно-Сибирской равнины мы понимаем фазу развития человека и форм его социально¬экономических и экологических отношений. Эта фаза была ограничена, с одной стороны, сменой геологических эпох (плейстоцена на голоцен), когда кардинальным образом изменилось ландшафтно-климатическое окружение человека, что повлекло качественное изменение форм адаптации к новым условиям, а с другой — появлением керамики и шлифованных каменных орудий труда, характерных уже для эпохи неолита.
Ранний голоцен — великое время фундаментальных открытий в истории человечества. Население многих регионов Земли перешло к оседлому образу жизни. Наряду с дальнейшим совершенствованием техники обработки камня, массово распространялись лук и стрелы. На Ближнем и Среднем Востоке, а также в отдельных районах Средней Азии в этот период были осуществлены первые опыты человека в доместикации (одомашнивании) многих видов растений и животных. В Сибири это было пока невозможно ввиду слишком суровых условий, поэтому доместицирована здесь была лишь собака. Появились орудия массового лова рыбы — сети. Широко распространились сани и лодки с веслами.
Итак, в Западной Сибири эпоху палеолита в X — VIII тыс. до н.э. сменил мезолит. Абсолютные даты, приведенные здесь, достаточно условны, поскольку формирование новых традиций было связано с глобальными климатическими изменениями, повлекшими за собой коренное изменение ландшафтов и форм их освоения человеком. Эти климатические изменения происходили на огромных пространствах Западной Сибири, во- первых, постепенно, а во-вторых, неравномерно.
Однако ледниковый период завершился, и климатические условия стали сходны с современными. Исчезли мамонты и другие представители «мамонтовой фауны».
На территории Западно-Сибирской равнины известно несколько мезолитических памятников. Они обнаружены на полуострове Ямал, в Ишимо-Тобольском районе, в Барабинской лесостепи, на Среднем Иртыше и в Кузнецкой котловине. Эти памятники сближает то обстоятельство, что характер каменных орудий менялся. На смену относительно крупным формам пришли миниатюрные орудия труда. Мельчайшие ножевидные пластины служили вкладышами в костяных и каменных основах. Можно предположить, что для лесостепи Западной Сибири с ее развитой техникой комбинированных орудий такой поворот событий облегчил адаптацию человека к новым условиям. Однако недостаток каменного сырья оставался очень острым.
В эпоху мезолита начался новый этап хозяйственного освоения Западно-Сибирской равнины. Человек широко использовал лук и стрелы, при помощи которых охотился на быстро передвигающихся животных. Основной его добычи стали олени и лоси. Выросло значение рыболовства. Широко распространилась новая техника изготовления орудий — вкладышевая. Все эти элементы культуры были заложены еще в самом конце палеолита, но получили широкое распространение именно в мезолите.
Новая волна заселения Западно-Сибирской равнины шла с юга, со стороны Казахстана и с Урала.
Человек продвинулся далеко на север. Особенности заселения региона хорошо видны при сравнении с соседним Зауральем. В Зауралье, которое было слабо заселено в эпоху палеолита, обнаружено большое число мезолитических стоянок. Здесь было найдено значительное количество каменных орудий, изготовленных из местного материала. На территории Западно-Сибирской равнины стоянок, которые можно отнести к эпохе мезолита, найдено мало. Стоянки располагаются неравномерно: ближе к Зауралью их значительно больше. Таким образом, основной поток населения с юга был направлен на Урал и значительно меньше в сторону Западной Сибири.
Стоянки иногда стали располагаться группами на террасах рек и озер. Число поселений в группе могло быть значительным. Примером являются Юрьинские озера, расположенные в Тюменской области на границе с Зауральем. Здесь на близком расстоянии друг от друга обнаружено свыше 30 поселений.
На Ямале Л. П. Хлобыстин исследовал местонахождение Корчаги 16 (правый берег р. Оби ниже г. Салехарда). Здесь найден комплекс орудий, включающий несколько нуклеусов, крупное скребло и скребки. Вблизи этого скопления была обнаружена углистая прослойка, по разрезу залегающая выше отложений, содержавших мезолитические находки (т. е. она может быть либо синхронна им, либо моложе). Абсолютный возраст угля, отобранного из этой прослойки, — 7 260 (± 80) л.н.
Группа стоянок обнаружена в таёжной зоне — на р. Конде. Здесь раскопаны полуземлянки и наземные жилища. Одно из них двухкамерное, с коридором и очагом. Культурный слой поселений был мощным и содержал несколько тысяч мелких каменных орудий.
В Прииртышье известна стоянка Черноозерье VIа, располагавшаяся возле одноименного палеолитического памятника. Стоянка была долговременной. Найденные здесь мезолитические микролитические орудия были изготовлены из высококачественного сы¬рья. Здесь было обнаружено 779 изделий (в основном вкладышей), большинство которых было изготовлено из североказахстанской яшмы. В Среднем Прииртышье известны еще несколько местонахождений с находками мезолитического облика (микролитическими). В основном это сборы с размытых озерных террас, но найдена и стоянка с культурным слоем — Большой Ащи-Куль II.
В Кузнецкой котловине, при исследовании памятника Большой Берчикуль I, В.В. Бобров среди разновременного материала выделил комплекс орудий и нуклеусов, ближайшие аналоги которых известны по материалам мезолитических стоянок Среднего Зауралья. Поздний («пережиточный») мезолит в Томско-Нарымском Приобье, лесостепном Прииртышье и Кулундинской степи представлен такими памятниками, как Большой Ащи- Куль I, Щербакульское и др. Это бескерамические памятники, для которых характерно сохранение вкладышевых, мезолитических по облику орудий. Наряду с ними обнаружены н шлифованные изделия, не имевшие распространения в «классическом» мезолите, но широко известные в неолитическую эпоху.
Выводы
Освоение современным человеком территории Западно-Сибирской равнины началось в эпоху среднего палеолита. Однако большинство палеолитических стоянок региона, известных на сегодняшний день, относятся к верхнему палеолиту. Стоянки свидетельствуют о кратковременном проживании людей и делятся на две группы: места, где люди, занятые охотой, находились в течение несколько дней, и поселения, где человек занимался хозяйственной деятельностью, но периодически покидал их, а затем возвращался.
В эпоху мезолита заселение Западно-Сибирской равнины шло с юга. При этом территория Зауралья оказалась более густо населенной, что было связано с наличием хорошего каменного сырья. На территории Западно-Сибирской равнины наиболее заселенней людьми оказалась западная часть.
Генинг В. Ф.. Петрин В. Т. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. — Новосибирск: Наука, 1985.
Деревянно А. П., Маркин С.В., Вшчикся Г.А Палеолитоведение: введение и основы. — Новосибирск: I [аука, 19У4.
Зенин В.И. Основные этапы освоения Западно-Сибирской равнины палеолитическим человеком // Археология, этнография и антропология Евразии. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАИ. 2002. — № 4 (12). -С. 22- 44.
Окладчиков А.П., Молодин В.И. Палеолит Барабы // Палеолит Сибири. — Новосибирск: Наука, 1978.-С, 9- 19.
Палеолит СССР. — М.: Наука, 1984.
Петрин В. Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. — Новосибирск: Наука, 1986.
Мезолит СССР. — М.: Наука, 1989. С. 136 — 143.
| КАМЕННЫЙ ВЕК | |||
| Палеолит | 2,6 млн.- 14 тыс. лет назад | ||
| Мезолит | ХII-VII тыс. до н.э. | ||
| Неолит и переходное к бронзовому веку время | VII-III тыс. до н.э. | ||
| БРОНЗОВЫЙ ВЕК | |||
|
Эпоха ранней бронзы Афанасьевская культура. |
III-II тыс до н.э. | ||
|
Эпоха развитой бронзы Сейминско-турбинская культура. Окуневская культура. Кротовская культура. Андроновская культура |
XVI-XI вв. до н.э. | ||
|
Эпоха поздней бронзы и переходное к раннему железному веку время Карасукская культура. Ирменская культура. Культура оленных камней |
Х-VIII вв. до н.э. | ||
| ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК | |||
|
Ранний железный век (эпоха ранних кочевников) Пазырыкская культура. Тагарская культура. Саргатская культура. Большереченская культура. Кулайская культура |
VII-III вв. до н.э. | ||
|
Гунно-сарматское время Саргатская культура. Кулайская культура. Таштыкская культура |
II в. до н.э.- V в. н.э | ||
|
Эпоха раннего средневековья (древнетюркское время) Древние тюрки. Енисейские кыргызы. Релкинская культра. Усть-ишимская культура |
VI-XII вв. | ||
| Эпоха развитого средневековья (монгольское время) | XIII-XV вв. | ||
| Эпоха позднего средневековья (новое время) | XVI-XVII вв. | ||

Александр Соловьев - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Автор и соавтор свыше пятидесяти научных статей и восьми монографий.
В область научных интересов входит изучение традиционных представлений коренного населения Западной Сибири: верований, искусства, культовой и погребальной практики, этно- и культурогенеза. Александр Соловьев около 20 лет занимался археологическими исследованиями древних памятников на Алтае, в степях Минусинской котловины, в западно-сибирской тайге и лесостепи.
Работы А. Соловьева отличает стремление к комплексному подходу в решении научных проблем, когда археологические материалы сочетаются с этнографическими наблюдениями, дополняются фольклорными источниками и данными естественных наук.
Научный редактор академик В.И. Молодин
Художник М.А. Лобырев
Слово к читателям
Писать о древнем оружии непросто. Тому есть множество причин. Несмотря на то, что войны в Сибирской тайге, степях и горах бушевали почти непрерывно, сохранилось лишь весьма ограниченное количество предметов вооружения. Оружие здесь, как, впрочем, и везде, высоко ценилось. Оно было желанным трофеем, лучшие его образцы передавались из поколения в поколение, и, хотя оно должно было сопровождать своих хозяев в жизни и в смерти, настоящие средства ведения боя, за исключением лука и стрел, нечасто помещались под курганы воителей эпохи бронзы и железа. Довольно рано вместо реальных боевых образцов в погребения стали опускать различного рода модели, отлитые из бронзы или даже выструганные из дерева. Многие предметы вооружения, по представлениям древних, были «живыми» и обладали способностью самостоятельно находить себе хозяина, а, следовательно, не могли быть захоронены. Свою роль сыграл также распространенный вплоть до эпохи позднего средневековья принцип «pars pro toto» (часть вместо целого), который позволял обходиться в подобных случаях лишь некоторыми элементами или частями оружия - например, отдельными панцирными пластинами вместо целых лат. Немало затруднений исследователям доставила и «курганная лихорадка» - тотальное разграбление погребальных памятников в поисках могильного золота, - с особой силой вспыхнувшая в XVIII в. В это время бесследно исчезла, надо полагать, не одна тысяча единиц разнообразного оружия.
Почти каждый древний предмет вооружения являлся штучным изделием, кроме, пожалуй, наконечников стрел, которые быстро приобретали стандартные, характерные для каждой исторической эпохи формы. Существует немалый соблазн ограничиться работой с несколькими наиболее яркими образцами, позволяющими судить об эпохе. Можно, конечно, пойти проверенным путем - составить подробные типологические схемы, определить хронологию, эволюцию основных видов оружия и найти для каждого исторического периода ведущие формы. Можно проанализировать погребальный обряд и попытаться на его основании выделить дружинную прослойку и т. д. Такой подход к анализу археологического материала нашел отражение в целой серии тематических монографий и сборников статей. Они, безусловно, представляют интерес для специалистов, но вряд ли будут интересны широкому кругу читателей. Тем более что за строгой логикой научного исследования остаются без ответа сотни вопросов, которых специалисты не в со-стоянии пока разрешить, не вступив на скользкий путь домыслов.
Но можно также, опираясь на факты, основываясь на археологическом материале, разбросанном по Северо-, Центрально- и Среднеазиатской ойкумене, попытаться собрать некое целое, дорисовывая недостающие части так, чтобы из фрагментов исторической действительности получилась картина, хронологически непротиворечивая и при этом отражающая колорит времени. Она, следует добавить, будет неполной без реконструкции облика древнего воина, то есть того,кто непосредственно влиял на создание истории.
Нашего современника не меньше, чем само оружие и особенности его применения, интересуют те, кто его носил. Для стран с развитой изобразительной и письменной традицией вопрос воссоздания образа древнего воина решается довольно просто. Тут достаточно взглянуть на барельефы Месопотамии или фрески Египта, росписи на сосудах античной Греции или фигурки на триумфальных арках Древнего Рима. Но как быть с регионом, где таких материалов нет? Конечно, среди вышеупомянутых изображений есть и фигурки варваров, но варваров, если так можно выразиться, местных, обитавших слишком далеко от просторов Сибири. Не может помочь исследователю и конструкция доспехов, которая у сибирских солдат не образует, как в рыцарской Европе, цельной металлической оболочки, определяющей облик витязя. Иные традиции, иные культуры.
Разумеется, нельзя отрицать существования изобразительной традиции на территории Сибири. Но, к сожалению, она дошла до нас только на «вечных материалах» - в виде наскальных рисунков и редких стилизованных фигурок, отлитых из бронзы. В таких изоб-ражениях многие важные для современного ученого детали отсутствуют, ведь они были столь очевидны для той эпохи, что подразумевались сами собой. Часто на петроглифах эпохи бронзы и раннего железного века мы только по оружию в руках можем распознать воинов среди многих силуэтных изображений обнаженных фигур с выделенными признаками пола. Сложно представить, что бойцы были снабжены лишь копьями и щитами и воевали голыми меж отрогов Саяно-Алтая и в глубинах западно-сибирской тайги. Жарким летом такая картина еще имела право на существование, но как быть с ранней весной или поздней осенью? Тем не менее, согласно древним силуэтным рисункам, лучники на лыжах тоже часто лишены одежды. И если здесь можно допустить наличие плотно облегающего костюма, то на прекрасно выполненной из бронзы фигурке мужчины с навершия ножа, обнаруженного близ Омска у с. Ростовка, кроме круглой шапочки и лыж никаких признаков иного одеяния не просматривается. Головной убор (либо замысловатая прическа) и оружие - основные элементы, на которых акцентировали внимание художники той эпохи. В древних изображениях не было ничего случайного. Головной убор и оружие были символичны, более важны для понимания образа, чем одежда. Именно по ним узнавался персонаж. Но для нас эти рисунки остаются во многом загадочными и, порой, фантастическими. Что, например, представляют собой так называемые «грибообразные» головные уборы, столь часто встречаемые среди петроглифов эпохи бронзы Горного Алтая, Тывы, Монголии? Быть может, это плетеные шляпы с огромными обвислыми полями или сжатые с боков, уплощенные головные уборы наподобие тех, что украшали головы офицеров европейских армий времени наполеоновских войн? Силуэтная техника рисунка не дает ответа на этот вопрос. И, конечно же, интерпретируя древние изображения, мы невольно допускаем ряд условностей и субъективных трактовок.
Однако, ситуация не столь безнадежна, как это может показаться на первый взгляд. Гигантская страна, которая лежит за Уральскими горами и зовется ныне Сибирью, никогда не была культурным изолятом. Здесь, на необъятных просторах Северной Азии, скакали по степи, пробирались в тайге, стояли на горных кручах столь же прекрасно экипированные воины, что и в соседних регионах. Ход истории здесь можно сравнить с колебаниями гигантского маятника. Следуя его движению, потоки вооруженных людей то шли на восток - в Сибирь, то двигались в обратном направлении - в Европу. Медленно брели в глубины Азии со стадами и семьями мигранты эпохи бронзы, отступали сюда перед македонскими копьями отряды кочевников раннего железного века. На рубеже эр в Европу катились неисчислимые полчища гуннского союза, а вслед за ними, столетия спустя, - воинственные племена тюркоязычных кочевников эпохи раннего средневековья. И, наконец, в XIII в. этим путем прошли закаленные в боях тумены Чингизидов. В создании военного потенциала каждый народ проявлял недюжинную изобретательность, не только создавая новые виды вооружения, но и заимствуя наиболее совершенные и удачные у соседних племен. Поэтому неудивительно, что на огромных территориях оружие имеет целый ряд поразительно сходных черт. Так, бронзовые наконечники стрел с музейных стендов городов Сибири оказываются «родными братьями» скифских, летевших в воинов Александра Великого или мелькавших над стенами урартской крепости Тешейбаини.
Рынок оружия сложился очень давно. В процессе мирных и немирных контактов предметы вооружения совершали поистине «вселенскую одиссею», попадая в весьма отдаленные от места своего производства регионы. А вместе с оружием распространялись способы его ношения и приемы владения им. Многие виды вооружения становились, таким образом, «интернациональными». Они в равной степени свидетельствуют о военном потенциале народа, который их создал, и народа, который их использовал. Примером этому служит почти повсеместное распространение лука так называемого «скифского», а потом и «хуннского» типа, коротких мечей-акинаков, палашей, сабель, различного вида наборных панцирей. Проследив направления культурных связей, можно с определенной степенью достоверности восполнить недостатки знания о местном оружии за счет данных о нем со смежных земель.
Территория Сибири в исторической перспективе всегда отличалась значительным пестроцветьем археологических культур. Многие из них, будучи в родстве, образовывали довольно обширные историко-культурные общности с единым мировоззрением и очень близкими хозяйственными структурами. Такие общности, как правило, занимали одну и ту же природную зону. Последняя, с военной точки зрения, - не что иное, как театр военных действий, ландшафт которого определяет особенности ведения войн и арсенал применяемого оружия. И если в рамках отдельно взятой археологической культуры набор вооружения может быть и не столь уж представительным, то в масштабах большой историко-культурной общности он выглядит вполне репрезентативно.
С ландшафтных позиций территория Сибири имеет выраженную зональность, которая варьирует от тундры, лесотундры, тайги на севере до лесостепи, степи и горных массивов на юге. Население каждого такого обширного природно-географического ареала создавало свой собственный мир, с единой экономикой, идеологией, материальной культурой. Со своими средствами и способами вооруженной борьбы. В соответствии с этими экологическими зонами мы и пытались рассмотреть, если так можно выразиться, «культуру войны». К сожалению, многие из интересующих нас территорий до сих пор остаются слабо изученными в археологическом отношении провинциями. Таковы, например, многие районы Забайкалья, восточно-сибирская тайга и предтаежье, тундра и лесотундра Западной и Восточной Сибири. Находки предметов вооружения на этих территориях, как правило, случайны и пока не позволяют воссоздать более или менее целостной исторической картины. По этой причине мы исключили их из нашего обзора.
Предлагаемая читателю работа во многом строится на реконструкциях. Проще всего их было делать на таежных материалах. Именно здесь на протяжении очень долгого времени - как минимум, от раннего железного века до самого средневековья - сохранялись старые формы материальной культуры, бытового уклада и верований. Поэтому можно возместить пробелы в источниках за счет данных этнографии и фольклора. Воссоздавая облик воинов распространенной здесь в эпоху раннего железного века кулайской историко-культурной общности, мы использовали этнографические материалы, касающиеся кроя одежды, обуви, фасона причесок аборигенного населения Нижнего Приобья. Декор одежды и воинской экипировки из органических материалов был восстановлен при помощи орнаментов с глиняной посуды, составленных кулайским населением. Рисунки на щитах южно-сибирских воинов эпохи бронзы были воссозданы аналогичным образом и представляют собой развертки орнаментальных поясов сосудов.
Конечно, невозможно ни доказать, ни опровергнуть, что щиты в этот период были именно круглыми. Но, реконструируя облик воинов, мы прежде всего хотели передать дух времени. Поэтому мы использовали подлинные орнаменты с характерной для данного периода и народа семантикой. Учитывалось также и то, что сакральное значение круга для памятников эпохи развитой и поздней бронзы у специалистов практически не вызывает сомнения. Разумеется, щиты могли быть иной - например, прямоугольной или пятиугольной - формы. Такие изображения мы также можем найти на некоторых оленных камнях и тоже представляем их на реконструкциях. Что касается цветовой гаммы, то для ее воссоздания, за отсутствием дополнительных данных, мы использовали только те оттенки, которые человек мог получить из природных материалов.
Облик горно-алтайского вождя эпохи раннего железного века был воспроизведен с помощью данных «царских» курганов пазырыкской культуры. Хотя штаны и головные уборы, судя по находкам, сделанным в мерзлотных курганах плато Укок, у местного населения были красного цвета, на нашей реконструкции они синие. Этому есть свои причины. Синий цвет ассоциировался у пазырыкцев с небом и считался принадлежностью высшей знати. Погребенные на плато Укок пазырыкцы, по всей видимости, являлись представителями знати среднего звена. В их одежде синий цвет представлен лишь небольшими фрагментами, как знак родства с главным домом. Разумеется, это лишь предположения, но мы можем найти множество аналогичных случаев использования цвета как символа статуса в древнем мире, - например, в не столь уж отдаленном Китае.
Для реконструкции воинской одежды эпохи великого переселения народов мы обратились к покрою одежд, найденных в глубоких штольнях могильника Ноин-Ула в Северной Монголии. Китайские ткани, судя по находкам на Алтае и в Западной Сибири, имели здесь хождение вплоть до позднего Средневековья.
В основе всех предложенных реконструкций лежат подлинные археологические материалы, которые имеют одну и ту же культурную и хронологическую принадлежность. В тех случаях, когда имелись выполненные антропологами портреты людей интересующих нас исторических эпох, мы использовали их для воссоздания облика воинов.
Обращаясь к оружию, мы должны помнить, что боевое и охотничье оружие в Северной, Центральной и Юго-Западной Азии не всегда можно различить. Зверовая охота здесь всегда была школой войны. На иранских миниатюрах XVI в. можно увидеть, что охотники использовали даже такое сугубо боевое оружие, как сабля, а в Бурятии еще в начале XIX в. выходили на загонную охоту в латах. Можно сказать, что история всего оружия начинается в каменном веке, когда охота на крупных животных составляла основное занятие племени.
Появление этой книги было бы невозможно, если бы не труды коллег-археологов, этнографов, оружиеведов. Низкий поклон всем известным и безымянным ученым, краеведам и подвижникам - тем, кто столетие назад начал воздвигать здание современной исторической науки.
Особые слова признательности хотелось бы сказать своему бессменному научному руководителю - академику В.И. Молодину. Его добрые советы и рекомендации помогали мне в работе еще со студенческих лет. Собранный им археологический материал оказал мне неоценимую помощь.
В работе над образами воинов мы пользовались консультациями и дружеской поддержкой антропологов ИАЭТ СО РАН к.б.н. Т.А. Чикишевой и Д.В. Позднякова. Искренняя им благодарность. Хотелось бы также выразить Д.В. Позднякову особую признательность за критические замечания и тонкие наблюдения, высказанные при обсуждении спорных вопросов, касающихся устройства защитного вооружения.
Слова глубокой благодарности хочу сказать директору МА ИАЭТ СО РАН к.и.н. А.П. Бородовскому за целый ряд очень полезных советов и консультаций относительно модельных реконструкций, а также за разрешение использовать в книге его авторские наработки.
Постоянную поддержку и дружеское внимание в процессе работы над позднесредневековыми материалами этой книги я ощущал со стороны этнографов ИАЭТ СО РАН д.и.н. И.Н. Гемуева, д.и.и. А.В. Бауло и профессора ТПГУ д.и.н. А.М. Сагалаева - талантливого ученого и прекрасного мастера научного слова, к сожалению, слишком рано ушедшего из жизни. Долгие беседы с этими выдающимися специалистами помогли мне почувствовать пульс и обаяние культуры коренных народов Сибири.
Глубокую признательность мне хотелось бы высказать д.и.н. В.И. Матющенко, д. и. н. Н.В. Полосьмак, д.и.н. Т.Н. Троицкой, д.и.н. Л.А. Чиндиной, д.и.н. Н.В. Дроздову и к.и.н. Б.А. Коникову, чьи материалы с их любезного разрешения были использованы в работе.
Работая над книгой, я не раз пользовался подробными консультациями моих друзей и коллег - востоковедов к.и.и. А.В. Варенова и С.В. Комисарова. Большое им спасибо.
Данное издание едва ли могло быть иллюстрировано должным образом без содействи директора Томского краеведческого музея к.и.н. Черняка и хранителя коллекций, прекрасного археолога и специалиста по культовому литью Я.А. Яковлева. Огромную помощь также оказали директор старейшего и богатейшего в Западной Сибири Музея археологии и этнографии Томского университета Ю.И. Ожередов и хранители отдела археологии И.В. Ходакова и И.В. Сальникова.
Нельзя не сказать о художниках, чей труд во многом определил книги. Искреннюю признательность хотелось бы выразить М. А. Лобыреву, которого можно назвать соавтором этого издания. Его мастерство помогло увидеть воочию древних воинов, а жизненный оптимизм - преодолеть неизбежные в работе трудности. Следует отметить также вклад, внесенный в дело В. П. Мочаловым, который изобразил батальные сцены, целый ряд археологических предметов и реконструкций. Процесс работы над иллюстрациями можно назвать полноценным научным исследованием, поскольку, являясь методом графической реконструкции, он не только помогал разрешить многие неясные вопросы, но и позволял ставить новые.
В книге использованы фотоиллюстрации, предоставленные А.В. Бауло, А. П. Бородовским, А.В. Вареновым, К. Инуком, В. Курносовым, А.М. Павловым, А.М. Сагалаевым. Без них работа многое бы потеряла. Хотелось бы особо поблагодарить их.
Александр Соловьев. 2003 г.
Вопрос о первом появлении человека в Сибири чрезвычайно сложен и интересен. Но необходимо договориться о терминах. Так, если говорить о появлении человека в Сибири в строгом соответствии с понятием «человек», то есть подразумевая человека современного, homo sapiens, то вопрос о времени его появления в Северной Азии, Сибири, решается достаточно определенно: современный человек в Сибири появился не ранее 30 - 35 тысяч лет назад, в то же время, когда сформировавшийся homo sapiens осваивал все территории и пространства Земли. До 1960-х годов такое положение не вызывало сомнений.
Если же говорить о времени появления в Сибири предков современного человека, то этот вопрос сложнее. Так, в 1960-е годы в сибирской археологии впервые была поставлена проблема нижнего палеолита, а значит, и проблема заселения этого края обезьянолюдьми, питекантропами.
Позднее, в 1970-е годы, А.П. Окладников впервые вышел на проблему существования в Сибири наших предков, возраст которых превышает 1 млн. лет, что позволило предположить обитание в Сибири, по крайней мере в пределах Саяно-Алтайского нагорья, каких-то австралопитековых форм человекообразных обезьян!
Еще позднее, на рубеже 1970 - 1980 гг. находки разрозненных местонахождений очень древних форм каменной индустрии на Верхней Ангаре (Г.И. Медведев) позволили предполагать расселение австралопитековых форм наших предков северо-восточнее Саяно-Алтайского нагорья.
Наконец, с открытием в 1982 г. Ю.А. Мочановым комплекса Диринг-Юряха, возраст которого определялся исследователями в 1,7 млн. лет, затем - более 2 млн. лет и, наконец, — 2,7 млн. лет, проблема обитания в Сибири австралопитековых или синхронных им форм человекообразных обезьян приобрела очертания одной из актуальнейших проблем отечественной и мировой науки.
С учетом этих предварительных замечаний условимся, что проблема первоначального появления человека в Сибири ставится нами как проблема появления в этом регионе древнейших комплексов культуры, в том числе и таких, которые можно связывать с древнейшими предками современного человека.
Древнейшие следы человекообразных предков человека в Сибири
Самым древним памятником появления предков человека следует считать комплекс Диринг-Юрях (далее - Диринг. - В.М.). Стоянка расположена на правом берегу реки Лены в 140 км выше Якутска. Здесь правобережная терраса реки достигает высоты 125 - 130 м над уровнем Лены, а на уровне 100 м начинается обрыв к реке. Лена здесь течет в северо-северо-западном направлении и затем поворачивает на юго-восток-восток, образуя высокий мыс, обильно покрытый таежной растительностью. На платформе кембрийского известняка (на уровне 105 м от уреза реки) залегают последовательно галечник, песок (иногда достигающий мощности 12-15 м), галечник, перекрывающий песок; далее на уровне 120 м от уреза реки и выше - песок и супесь в разных сочетаниях вплоть до поверхности (на уровне 135 м от уреза реки). Культурные останки обнаружены на втором горизонте галечника на высоте 115 - 118 м от уреза реки.
К настоящему времени вскрыто много десятков тысяч кв.м площади (работы на памятнике продолжаются, и количественные показатели меняются). В настоящее время собрано около 10 тыс. экземпляров - каменных изделий, которые обнаружены в основном отдельными скоплениями. Так, на раскопке 1982 - 1989 гг. на площади около 20 тыс.кв.м зафиксировано 25 таких скоплений.
Среди найденных каменных изделий: концевые, дисковидные чопперы с «носиком», боковые, двулезвийные, трехлезвийные чопперы, многочисленные отщепы, скребла (боковые, концевые), скребловидные диски. Много валунов со сколами, которые хорошо собираются с основной частью валуна методом аппликации, что особенно важно, так как свидетельствует об обработке валунов на этом же месте, на соответствующем скоплении. Большая часть каменных изделий покрыта карразией, свидетельствующей о древнейшем возрасте обработанной поверхности.
Геологические условия залегания культурных остатков свидетельствуют о том, что в Центральной Якутии при минусовых среднегодовых температурах предок человека уже жил предположительно 3,2 - 1,8 млн. лет назад, что подтверждает и каменный инвентарь, хорошо сопоставимый с известными находками Олдувая в Африке.
Итак, можно с определенной долей уверенности утверждать, что предки человека в Сибири появились в пределах 3-го миллиона лет до нас, судя по находкам в Диринге. Этот памятник, древнейший во всей Евразии, выглядит одиноким, изолированным в условиях Сибири и ближайших регионов. Вместе с тем несомненно, что это древнейший пункт, скорее всего кратковременного (в масштабах измерения времени той эпохи), пребывания наших предков в Сибири. Можно допустить, что в Диринге обитала группа австралопитеков с высоко развитым интеллектом, что проявилось в замечательной, совершенной по тем временам технике обработки каменных изделий. Значит, они владели многими трудовыми навыками и важнейшим из них - изготовлением каменных орудий. Человек Диринга (точнее — австралопитековый предок человека) был одиноким на огромных пространствах Северной Евразии. Ближайшие современники его обитали в Центральной и Восточной Африке, где в последние почти четыре десятилетия изучены находки в Олдувае, Омо; это так называемый homo habilis; возраст его огромен, чуть более 4 млн. лет. Физический тип его — австралопитековая человекообразная обезьяна. Помимо орудий труда здесь собраны и костные останки homo habilis.
Возможно, подобные человекообразные существа обитали и в других районах Афроевразии. Но наука пока не знает таких находок. На сегодня мы можем достоверно утверждать, что в двух регионах Афроевразии (и один из них - Средняя Лена) обитали наши древнейшие предки. Может быть, стоит предположить гипотетически, что в этих двух регионах сложились центры очеловечения обезьян? Может быть, не правы те ученые, которые отстаивают моноцентрическую концепцию происхождения человека?
Мы не можем судить ни о характере добычи средств к существованию, ни об использовании огня, ни о характере сообщества, оставившего стоянку Диринг. Все это требует дополнительных исследований. Однако несомненно (с учетом наших знаний об олдувайском человеке, т.е. homo habilis), обитатели берегов Лены добывали пищу охотой на мелких животных, наверное, поедали и крупных животных, случайно добытых, а также выкапывали съедобные коренья, клубни, рвали и ели некоторые травы и ветки, собирали плоды и прочие дикие дары природы, не очень щедрой в Сибири. Мы не можем сейчас сказать что-либо о судьбе австралопитеков Диринга. Какого-либо продолжения каменная индустрия Диринга не знает в памятниках последующего времени.
Следующим этапом в истории заселения Сибири предком человека является обитание здесь обезьянолюдей. Вероятно, это были какие-то типы питекантропов, возможно, самых ранних форм. Документом этого этапа является стоянка Улалинка в Горно-Алтайске, в устье одноименной речки. Открыта А.П. Окладниковым и Е.М. Тощаковой в 1961 году. Находки стоянки составили в основном архаичные топоровидные изделия (археологи называют их чопперами и чоппингами). Возможный возраст стоянки - более 1 млн. лет. Улалинка может быть датирована самым древним периодом в истории Северной Азии: более 1 млн. лет (Окладников А.П., 1968). Основными находками являются изготовленные из галек рубящие и скребущие инструменты. Это - чопперы и чоппинги, грубые галечные скребла, «проторубила» — гальки, слегка приостренные с одной стороны одним или несколькими ударами вдоль длинной оси; расколотые валуны, иногда оббитые, галечные сколы. Все изделия Улалинки не имеют устойчивых форм и типов.
Вероятно, древнейшее оледенение (периода эоплейстоцена) могло иметь отношение к истории обитателей Улалинки и близких к ней памятников, т.е. австралопитековых Сибири. Из комплекса природных факторов того времени обратим внимание на то, что фауна была богата крупными животными: мамонт, бизон, бык.
Ряд других местонахождений: переотложенные находки по берегам Братского водохранилища, стоянка Усть-Олекма, Болшево, Усть-Чара, Хара-Балык, Монастырская гора 1- 3, мыс Дунайский 1,2, Мохово 2, Торгалык, Бережковский участок на берегу Красноярского водохранилища и Куртакский район на Енисее, где известны Верхний Камень, Разлог 2 и Разлив, датируются временем, позднее Улалинки или тобольским временем по хронологии геологов.
На Ангаре к этому же времени относятся группы стоянок Олонского и Тапахайского пластов, а также Макаровского комплекса. Памятники открыты в 1970 - 1990 гг. Они свидетельствуют о достаточно плотном заселении Южной Сибири группой питекантропов. Несомненно, каменная индустрия этого времени шагнула далеко вперед в сравнении с Дирингом и Улалинкой. Во всяком случае проступают уже две формы обработки камня: галечниковая (чопперы и чоппинги) и пластинчатая (изделия с леваллуазскими чертами).
Следующий этап истории появления предков человека в Сибири связан с более многочисленной группой памятников нижнего палеолита, которые можно датировать по европейской хронологической шкале мустьерским временем, т.е. 25060/50 тыс. лет назад. Районами обитания человека этого времени являются Саяно-Алтайское нагорье: стоянки в пещерах Усть-Канская, Страшная, Денисова, им. академика Окладникова, Двуглазка и некоторые другие - Тюмечин 1,2, Кара-Бом, Усть-Карагол (на Алтае), ряд стоянок в Туве; на Ангаре - группа памятников Игедейского пласта, на р. Зея - стоянка Филимошки и на р. Куде — стоянка Малый Кот.
Основным признаком культуры этого времени является каменная индустрия мустьерского облика с умеренным присутствием пластинчатой техники (типа леваллуа). Единичные находки костей в пещерах Усть-Канская и Страшная (невыразительные, сильно поврежденные трубчатые кости) не позволяют нам судить, к какому типу обезьянолюдей принадлежали обитатели Сибири.
По европейской периодизации древнекаменного века на эпоху мустье приходится время обитания неандертальцев, последней, самой поздней формы обезьянолюдей. Ближайшей к Сибири является находка подростка неандертальца в пещере Тешик-Таш (Узбекистан), сделанная А.П. Окладниковым в 1938 г. Вспомним также и то, что сравнительно недалеко известна пещера Чжоу-Коу-дянь у Пекина, где на протяжении десятилетий исследуется стоянка нижнего палеолита, подарившая науке огромную серию черепов синантропа (питекантропа), который обитал в Юго-Восточной Азии. Не исключено, что синантроп был современником ранних неандертальцев. Следовательно, в Сибири в это время могла быть расселена какая-нибудь группа тех или других древнейших обитателей Азии.
Мустье на Алтае представлено стоянкой в пещере Усть-Канской (открытой С.И. Руденко), местонахождениями в Туэкте, стоянкой у с. Бобково, Тюмечин 1 и 2, в пещерах Страшная, Сибирячиха, Денисова, им. Окладникова, а также сборами отдельных находок на Чарыше, у с. Гилево на Алее и на речке Чумыше.
Можно говорить о нескольких культурных традициях, выразившихся в технике обработки камня; не будем подробно излагать каждую из них.
1. Смешение техники чопперов и чоппингов (т.е. традиции галечниковой) с леваллуазской индустрией.
2. Зубчатое мустье, описанное М.В. Шуньковым по материалам стоянки Тюмечин 2. Здесь помимо зубчатой техники обработки присутствует галечниковая и бифаскальная. Известны скребла разных форм, инструменты двусторонней обработки.
3. «Типичное мустье» (слои 1-3, 6 и 7 в пещере Сибирячихе (им. А.П. Окладникова) и стоянка Тюмечин 1. Характерны изделия мустьерского облика: нуклеусы, скребла, пластины и остроконечники леваллуа. Леваллуазская техника обработки камня - наиболее яркая черта алтайского мустье, а среди изделий наиболее интересны леваллуазские пластины.
Пещера им. Окладникова и археологический комплекс в ней обнаружены А.П. Деревянко и В.И. Молодиным в 1984 г. Стоянка относится ко времени каргинского потепления. Здесь исследованы слои, содержащие нижнепалеолитические материалы. Их составили 357 целых и 313 фрагментарных каменных находок: разнообразные остроконечники, скребла, скребла-ножи, двойные орудия, ножи, скребки, резцы, проколки, зубчатые и выемчатые орудия, отбойники, ретушеры. Дата стоянки в пещере им. Окладникова 44800 + 400 - 33300 + 520 тыс. лет до нас.
Нижнепалеолитические местонахождения Тувы очень редки. К ним относят:
1) Е-13 (правый берег р. Улуг-Хем в 1,8 км выше р. Чимге).
2) Пеступовка 1 на левом берегу р. Шагонар.
3) Чимге-Даг-Чжу на правом берегу р. Чаданы.
К раннепалеолитическому времени на Средней Ангаре относятся пункты Монастырская гора I, И, III, мыс Дунайский I, Игемейский лог III.
На Верхней Лене в районе Киренска-Балышево и Средней Лене - Устъ-Чара, Хара-Балык, Усть-Олекма, Юнкор, Тимир-Хая.
Ко времени описываемых стоянок надо отнести и местонахождения Приамурья (История Дальнего Востока СССР). Древнейшие каменные орудия Филимошек, Кумар I и Усть-Ty несут традицию архаичной галечниковой техники, грубы и примитивны: чопперы, чоппинги, скребла, изделия с «носиком”.
История становления наших предков и современного человека протекала на фоне гигантских по масштабам изменений в природе нашей планеты. Эти процессы становления человечества приходятся на последний, четвертичный, период кайнозойской эры в истории Земли. Его называют также антропогеном или плейстоценом . Начало его можно отнести ко времени в 2 млн. лет.
Для Северной Азии (Сибири) выявлены этапы оледенения , как и для Европы.
Древнее оледенение (до 200 тыс. лет), эоплейстоцен.
Существует ряд стратиграфических схем четвертичного периода Северной Азии (Западносибирская равнина, Средняя Сибирь, Саяно-Алтайская область, Прибайкалье и Забайкалье, Приморье и Сахалин. Назовем наиболее определенные для Западной и Средней Сибири:
Горнофиленский, Мансийский, Талагайскинский горизонты — до 650 тыс.лет; Азовский (Нижнешайтанский), Тильтимский, Низямский (Верхнешайтанский) горизонты - до 420 - 380 тыс.лет;
Тобольский горизонт — до 250 тыслет;
Самаровский , или нижнечетвертичный (до 200 тыс.лет), нижний плейстоцен. Ледник охватил пространства со стороны Ледовитого океана: до Среднего Урала (59° с.ш.), Нижнего Иртыша (59° с.ш.), Нижний Енисей (62° с.ш.).
Тазовский, или среднечетвертичный (200 - 130 тыс. лет), нижний плейстоцен. Ледник достигал на Среднем Урале 61-62° с.ш., на Нижнем Иртыше 63-64° с.ш., далее его южная граница уходила на Таймыр.
Казанцевский (130 — 100 тыс.лет), среднечетвертичный; распространены тундро-степи.
Зырянский (100 - 50) тыс. лет, верхнечетвертичный, верхний плейстоцен. В зырянское время приледниковые тундро-степи существенно подвинулись на север в сопоставлении с современными северными границами их. Во время каргинского межледниковья потепление сменялось похолоданием и вновь потеплением. Устанавливается климат, близкий современному.
Каргинский (50 — 25 тыс.лет).
Сартанский (25 - 10 тыс.лет), верхний плейстоцен и голоценовый период. В поздние этапы верхнего палеолита постепенно сокращаются стада мамонтов, бизонов, что заставляет обитателей Сибири приспосабливаться к охоте на более мелких животных. Соответственно этому изменяются типы орудий, а особенно жилища: они становятся настолько легкими и временными, что археологически фиксируются только кострища и некоторые детали их (ямы, иногда обложенные каменными плитами). Период сартанского оледенения характеризуются широким распространением приледниковых тундростепей. В голоцене в Сибири формируется современного облика тайга.
Расселение человека современного типа в Сибири
Как известно, на рубеже нижнего и верхнего палеолита, в пределах 40 - 30 тыс. лет назад наступила эпоха современного, разумного человека, homo sapiens. Обезьянолюди уступили свое место человеку современного типа. В этой работе мы не будем рассматривать в целом проблему происхождения современного человека. Она исследуется, как правило, на материалах других регионов планеты, где находки костных остатков обезьянолюдей (питекантропов и неандертальцев) сопровождаются многочисленными археологическими комплексами. Это районы Южной, Юго-Восточной Европы, Среднего и Ближнего Востока, Северной Африки. Вся Северная Евразия, и в том числе Северная Азия, не может сегодня рассматриваться как один из районов формирования современного человека. Наука пока не имеет для этого достаточных материалов.

Огромные территории Сибири в эпоху верхнего палеолита (40 тыс. - 12 тыс. лет до нашего времени) оказались освоенными человеком почти полностью. Современная наука располагает сведениями о многих сотнях стоянок этой поры. К сожалению, точного учета количества этих стоянок нет.
В настоящее время на территории Сибири можно выделить несколько регионов расселения древнего человека. Среди них назовем Прибайкалье (Верхняя Ангара, Верхняя Лена), Саяно-Алтайское нагорье и юг Западной Сибири, Забайкалье, река Лена и Северо-Восток Азии, Приамурье и Приморье. Эти регионы изучены в разной степени и потому не исключено, что со временем будут выявлены и другие подобные области средоточения верхнепалеолитических памятников.
Все многообразие верхнепалеолитических памятников Сибири образуют несколько историко-культурных областей.
Ангаро-Чулымская историко-культурная область представлена мальтинско-буретской культурой и подобными памятниками других районов (Ачинск, Томск).
Мальтинско-буретская культура исследована М.М. Герасимовым, А.П. Окладниковым, Г.И. Медведевым. Особо важны описания памятников, давших название культуре. Стоянка Мальта расположена на 16 - 20-метровой террасе р. Белой, левого притока Ангары. Исследована М.М. Герасимовым в конце 1920-х — начале 1930-х гг. и в 1950-е годы. В последнее время стоянка обследуется Г.И. Медведевым. В итоге вскрыто свыше 1000 кв.м площади, собрана богатейшая коллекция каменного и костяного инвентаря, произведений искусства и украшений, исследованы остатки жилищ и бытовых комплексов. Возраст стоянки по радиоуглероду определяется 19-21 тыс. лет от наших дней, хотя есть и дата в 14,5 тыс. лет.
Фауна Мальты представлена преимущественно костями северного оленя, а также песца, шерстистого носорога, мамонта, бизона, быка, лошади, росомахи, льва и волка.
В инвентаре широко представлены нуклеусы (призматические, конические, кубовидные). Основой каменной индустрии служили кремневые пластины призматической формы. Изготавливались острия, проколки, резчики, небольшие ножи, резцы (срединные, боковые, угловые), концевые скребки, а также высокие скребки, долотовидные орудия. Из кости сделаны длинные острия (из бивня мамонта), шилья, иглы. Многочисленны произведения искусства.
По материалам стоянки Мальта встает в один ряд с выдающимися поселениями верхнего палеолита мирового значения.
Буреть расположена на правом берегу Ангары, в 20 км ниже Мальты. Исследована А.П. Окладниковым в 1930-е годы. Материалы очень близки мальтинским. Оба памятника принадлежат одной группе населения единой культуры. К этой же культуре следует отнести и Ачинскую стоянку, расположенную на окраине Ачинска в северном берегу долины при переходе на высокую правобережную долину Чулыма. Открыта Г.А. Авраменко, который исследовал ее совместно с В.И. Матющенко, а позднее - с В.Е. Ларичевым. Фауна стоянки представлена мамонтом, лошадью, песцом, козой, волком и куропаткой (?). Инвентарь содержит одноплощадочные нуклеусы, с которых снимались пластины, а также многочисленные пластины, из которых изготавливались орудия. На стоянке много также орудий из отщепов. Много в коллекции скребков, в том числе нуклевидных резцов, долотовидных орудий; есть проколки, скребла, один чоппер. Из бивня мамонта изготавливались наконечники.
Томская стоянка в районе Лагерного сада Томска на правом берегу Томи. Исследована в 1890-е гг. Н.Ф. Кащенко. Находки очень малочисленны; техника пластинчатая. Фауна представлена только костями одной особи мамонта. Памятник можно трактовать как кратковременный пункт пребывания охотников на мамонта. Возможно, к кругу памятников этой культуры надо отнести стоянки Тарачиху на Енисее, выше Красноярска, Красный Яр на Ангаре (ниже устья р. Осы), в настоящее время под водами Братского водохранилища.
Стоянки в разных горизонтах отложений (дата их приходится на конец каргинского межледниковья - начало сартанского оледенения) содержала комплексы кострищ со шлаками горючих сланцев. Фауна - дикая лошадь, северный олень, зубр, заяц-беляк, медведь, куропатка, рыбы, носорог. Орудия немногочисленны; их составляют острия, проколки, скребки, долотовидные изделия, скребла, нож, резцы (боковые и срединные), чоппер и рубиловидное орудие. Украшения в виде просверленных резцов молодого северного оленя.
Стоянка Малая Сыя находится в Хакасии на восточных отрогах Кузнецкого Алатау в долине речки Малый Июс (бассейн Чулыма). Открыта и исследована В.Е. Ларичевым. Раскопано несколько жилшц-землянок, собрана богатейшая коллекция инвентаря, представленная пластинчатой техникой обработки камня, призматическими нуклеусами. Время стоянки по радиокарбону 35 - 33 тыс. лет до наших дней. Это один из древнейших памятников верхнего палеолита.
Фауна стоянки представлена такими животными, как: заяц, мамонт, лошадь, носорог, олень (благородный и северный), сайга, бизон, баран, медведь бурый, гиена, грызуны.
Южносибирская историко-культурная область в составе афонтовской, кокоревской, сросткинской и забайкальской культур (Алтай, Енисей, Забайкалье).
Афонтовская культура (20/21 - 12 тыс. лет до н.э.) представлена большим числом памятников Среднего и Верхнего Енисея: Афонтова гора (II, III), насчитывающая много горизонтов, Таштык I, И, Кокорево II, III, Усть-Кова, Каштанка. Характерны микролитическая и пластинчатая техника, появление ряда новых форм изделий: резцов, долотовидных орудий, острий, скребел, скребков.
В пределах Западного Саяна сейчас известно около 30 местонахождений. Из них ко времени афонтовской культуры можно отнести более или менее уверенно такие: Голубая I-III на правом берегу Енисея на одноименной речке, группа стоянок Сизая (I, II, V, VII, VIII, X, XI), стоянка Кантегир на левом берегу р. Кантегир, Джой у устья р. Джой, Майнинская у устья р. Уй.
Восточный Саян и красноярская лесостепь имеют несколько памятников афонтовской культуры: Бирюса, левый берег Енисея, Переселенческий пункт, Ладейка, Кача I, Дружиниха, такие крупнейшие местонахождения, как Афонтова гора I и II, на левом берегу Енисея в г. Красноярске, у железнодорожного моста. Афонтова гора I открыта в 1884 г. И.Т. Савенковым и им же много лет исследовалась. Афонтова гора II, рядом с первой (у дачи Юдина). Открыта и исследована вначале В.И. Громовым, а затем Г.П. Сосновским, Г. Мергартом и другими. Афонтова гора III, между Афонтовой горой I и И. Открыта И.Т. Савенковым.
В Минусинской котловине помимо уже упомянутых стоянок к афонтовской культуре относят Аэродром у г. Саяногорска, Сосновое озеро на р. Абакан, Изых, Таштык I-III, Первомайское II.
Кокоревская культура (15-11 тыс. лет до н.э.) представлена памятниками Кокорево I, Новоселово VI, VII. Характерны пластины и пластинки, скребла, скребки, резцы, проколки. Техника пластины становится характерной.
Ко времени кокоревской культуры можно отнести в Западном Саяне Уй I, на берегу речки такого же названия; в Минусинской котловине - Сартыков, Хызыл-Хая, Татарский остров, Новотроицкое, Подсуханиха, Бузуково I, II, Лебяжье, Малые Копены, Большая Ирджа, Первомайское I, Аешка I-III, Новоселово VI, VII, X, XI, XIII.
Сросткинская культура изучена в основном по стоянке Сростки (в 36 км от Бийска по тракту на Горно-Алтайск). Стоянка располагается на террасе, высотой в 50 - 80 м на р. Катуни. Основным сырьем для орудий служили каменные желваки; заготовками орудий были отщепы, массивные пластины, крупные удлиненные пластинки. Орудия: скребла из крупных отщепов, среди которых скребла-ножи; остроконечники, скребки; редки проколки, долотовидные орудия.
В последние годы в пределах Алтая некоторые исследователи выделяют несколько культурных общностей, известных под названием культур:
Куюмская (Усть-Куюм, нижний слой стоянки Усть-Семы, нижний слой (седьмой) стоянки Тыткескеня 3, Юстыд I, Богуты I). Техника расщепления камня состоит из трех основных компонентов: 1) получение заготовок для скребел, для чего использовались одно- и двухсторонние радиальные нуклеусы и крупные галечные ядрища, что можно назвать наследием мустье; 2) использование плоскостных нуклеусов для получения крупного пластинчатого отщепа, из которого изготавливались скребки, резцы, острия, долотовидные орудия; 3) изготовление призматических ядрищ для получения мелких пластин.
Чуйская общность, которую не называют культурой из-за нечеткости существующих форм изделий (памятники Торгон, Багдон, Чагай-булгазы, Варбургазы). Здесь мало галечниковых изделий, но много бифасов; немногочисленны нуклеусы призматического типа: снятие пластин производилось с грубых тюдпризматических нуклеусов; хорошо выражены пережитки леваллуа; нет скребел и скребков куюмских памятников; большая доля зубчатых и зубчато-выемчатых орудий. Скорее всего эти памятники связаны с монгольскими палеолитическими комплексами.

Нижнекатунская общность (стоянки Сростки, Урожайная, Усть~Иша 3, Красная гора, Камешок I). Многочисленны отдельные находки. Отсутствует галечниковая техника; существуют устойчивые формы бифасов: топоровидных орудий, полулунных ножей, рубилец, крупных режущих и рубящих орудий.
Ушлепская общность расположена в темнохвойной тайге западных отрогов Горной Шории. Наиболее изучены стоянки Ушлеп 3 и Ушлеп 5. Использовались плоскостные ядрища для получения заготовок скребел, пластин, пластинчатых отщепов. Призматическая пластина скалывалась с клиновидных и грубо-призматических нуклеусов. Но техника призматических нуклеусов немногочисленна. Орудия: разнообразные скребки, в том числе и концевые, мелкие бифасы, скребла. Появляются пластины с притупленным торсом: эти пластины были вкладышами орудий типа гарпуна. Но могли изготавливать и копья с режущими краями.
Памятники бассейна Чумыша своеобразны, им характерна техника расщепления, свойственная нижнекатунской. Но известны изделия: дисковидные и концевые скребки на пластинах, дисковидные резцы, а также многочисленны костяные изделия: кинжал из ребра бизона, наконечник копья с пазом для вкладышей, гарпуны.
Памятники предалтайской долины очень малочисленны: Усть-Калманка на Чарыше, Староалейский мыс, Мохнатушка I. Вероятно, здесь из-за отсутствия необходимого сырья долговременных поселений не было; сохранились следы кратковременных охотничьих экспедиций. Поэтому отсюда происходят сильно изработанные мелкие изделия.
Забайкальский палеолит (культура) представлен стоянками Варварина Гора, Няньги, Куналей, Усть-Кяхта, Икарал, Студеное, Ошурково, Санный мыс, Сохатино и др.
Характерны одно- и двухплощадные призматические нуклеусы разных форм и видов; скребки, скребла разных форм из расколотых галек, много пластин со вторичной обработкой. Фауна: байкальский як, винторогая антилопа, благородный олень, бык, бизон, лось, северный олень, заяц и первобытный зубр. Культура сравнительно позднего времени: 11-10 тыс. лет назад.
Интересна стоянка Варварина Гора у г. Улан-Удэ. Это очень ранний памятник (34 - 30 тыс. лет назад), содержал много архаичных форм изделий, напоминающих мустьерские формы. В слое открыты ямы-кладовые, выложенные каменными плитками.
Памятники юга Западной Сибири в настоящее время до конца не изучены на предмет их культурной принадлежности. Тем не менее Ф.В. Генинг и В.Т. Петрин склонны считать их самостоятельной культурой, близкой кругу енисейских памятников.
Расселение человека в Западной Сибири прослеживается по местонахождениям, которые датируются только моложе 40 - 35 тыс. лет, т.е. временем верхнего палеолита: Томское, Ачинское, Могочинское, Волчья Грива, Венгерово, Черноозерье II, Шикаевка II, Гари и некоторые другие. Эти памятники возможно включать в состав южносибирской историко- культурной области.
Обращает внимание то обстоятельство, что все стоянки располагаются в основном на южной окраине Западно-сибирской равнины. Не исключено, что это свидетельствует о существовании на равнине пресноводного «подпрудного озера», возникшего вледствие сложения в северной половине равнины мощного ледяного щита, закрывающего сток Оби и Иртыша.
Черноозерье II, стоянка в 140 км к северу от Омска на левобережье Иртыша. Каменный инвентарь немногочислен: призматические пластины, скребки, резцы, проколки.
Примечательна находка кинжала из ребра крупного животного, у которого проделаны продольные пазы, а в них вставлены мелкие кварцитовые пластины-вкладыши.
Имеется такой интересный памятник, как Волчья Грива в Барабинской степи. Под толщей в 1 — 2 м открылось большое скопление костей мамонта: около 1000 экз. от не менее чем 10 особей животного. Встречены кости бизона, волка, лошади. Многие трубчатые кости разбиты, многие из них имеют следы деятельности человека.
Западно-сибирские стоянки свидетельствуют о том, что этот регион был заселен человеком на втором, афонтовско-кокоревском, этапе истории юга Сибири. Основное население было связано с районами Южной Сибири, в частности с Алтаем. Возможно, и со стороны Казахстана и Средней Азии в Западную Сибирь проникали какие-то группы людей. Однако неблагоприятные природные условия Западно-сибирской равнины сдерживали расселение людей в этом направлении.

В пору позднего палеолита человеком был освоен Урал: известны некоторые стоянки этого времени в Приуралье. Наверное, правы те исследователи, которые полагают, что палеолитические обитатели Урала и Приуралья были генетически связаны не с обитателями Восточноевропейской равнины, а Сибири и Средней Азии (О.Н. Бадер). Если такая точка зрения справедлива, то обитатели юга Западно-сибирской равнины, Урала, Приуралья и значительной части Казахстана составляли единый обширный массив древнего человечества периода 20-12 тыс. лет тому назад.
Северо-Восточная Сибирская историко-культурная область включает две культуры: макаровскую и дюктайскую.
Макаровская культура представлена памятниками Макарово III, IV, VI, расположенные ниже г. Качуга на правом берегу Лены. Известны и другие памятники, сходные с этой группой.
Орудия: остроконечники, в том числе с двусторонне-утолщенным основанием, ножи из пластин, концевые, боковые, скребки, скребла, чопперы, отбойники, проколки, резцы.
Время макаровских памятников очень обширно: Макарово IV определяется в диапазоне 50 — 40 тыс. лет назад, что соответствует каргинскому межледниковью; Макарово III — 19 - 13 тыс. лет и Макарово VI 16 - 15 тыс. лет назад. Найдены кости мамонта, шерстистого носорога, северного оленя, дикой лошади, горного барана, снежного барса, медведя, волка.
Дюктайская культура (35 — 10,5 тыс. лет назад) изучена Ю.А. Мочановым в 1960 — 1970-е гг. (Мочанов Ю.А., 1977). До начала работ этого ученого самой северной палеолитической стоянкой считалась Частинская, на левом берегу Лены (58° с.ш.). Теперь эти стоянки известны в низовьях Колымы и Индигирки (у 75° с.ш.): Дюктайская пещера, стоянки Усть-Дюктай I, Усть-Миль II, Ихине I, II, Эжанцы, Верхне-Троицкая, Тумупур и многие другие. Каменный инвентарь культуры характеризуется прежде всего двусторонне обработанными наконечниками копий, дротиков и ножей, а также пластинчатыми изделиями и изделиями из отщепов: скребки, скребла, резцы.
Фауна памятников культуры представлена мамонтом, северным оленем, лосем, бизоном, шерстистым носорогом, лошадью, снежным барсом, пещерным львом, волком, лисицей, песцом, зайцем, грызунами, птицами и рыбой.
Интересна самая северная стоянка палеолита (71° с.ш.) в среднем течении р. Берелех (левого притока р. Индигирки). Здесь обнаружены две части памятника: а) обычная стоянка с набором каменных и костяных изделий; б) «кладбище» мамонтов: огромное количество костей мамонта (свыше 8 тыс. экз. от 140 особей). Кроме того, здесь собраны и единичные кости шерстистого носорога, пещерного льва, лошади Черского, северного бизона и росомахи.
В состав дюктайской культуры можно включать и палеолитические памятники Чукотки и Камчатки.
В последние десятилетия на Северо-Востоке Азии Н.Н.Диковым открыт ряд местонахождений, которые образуют по крайней мере трехступенчатую хронологическую систему.
1. Кымъынанонвываам XII, XIII - самые древние стоянки, периода «до наконечников».
2. Стоянки Ульхум, Курупка I, Чаатамье, Игельхвеем X, Марич I, Челькун II, Косьювеем IV — чуть позже; сопоставимы с Ушками на Камчатке. Сама стоянка Ушки открыта в центре Камчатки. Время верхнепалеолитического комплекса определяется 13 - 14 тыс. лет назад. Здесь открыты погребение и сдвоенное жилище. Могила округлая, содержала следы умершего, положенного скорченно и снабженного большим количеством (881 шт.) агамальтолитовых и янтарных плоских бусинок и биконически просверленных подвесок и халцедоновых острии для их изготовления.
Жилища больших размеров (более 100 кв. м), они сдвоены, в каждой камере по три очага. Сооружения долговременны. Особенностью стоянки являются наконечники стрел: треугольные черешковые.
И наконец, еще более поздние стоянки: Иони X, Ионивеем VIII, Чувайгытхын II.
Районы Приморья, Приамурья и Сахалина в настоящее время исследователи не включают в какую-либо из охарактеризованных историко-культурных областей. Поэтому рассмотрим каждый из этих районов отдельно.
Верхний палеолит Сахалина имеет по крайней мере следующие этапы в истории: 1. Адотымовская культура - 30 - 20 тыс.лет назад. На материке (Приморье) это время представляют стоянки пещера Географического общества, Осиновка IV (слой. 2). Ранняя южносахалинская культура — 16 - 12,5 тыс.лет назад. На материке ей синхронна Устиновка III. 3. Средняя южносахалинская культура - 12 — 10 тыс.лет назад. На материке ей синхронна Устиновка II. 4. Поздняя южносахалинская культура — 9 тыс.лет назад — до появления керамики. На материке ей соответствует Устиновка I.
Верхнепалеолитические местонахождения Приморья единичны: Осиновка, на р. Раздольная, Астрахановка, Устиновка II и некоторые другие. В Приморье успешно утверждается пластинчатая техника обработки камня. Очевидно, Приамурье и Приморье в это время развиваются несколько по иным путям.
В пещере Географического общества найдены вместе с каменным инвентарем кости мамонта, лошади, носорога, бизона, косули, оленя, изюбра, лося, пещерного тигра, барса, бурого медведя.
Сочетание галечниковой, грубой техники с пластинчатой леваллуазской известно в это же верхнепалеолитическое время и в Приамурье, на стоянках Кумары II, Громатуха, и на озере Бородинском. Появляется и техника двусторонней обработки ретушью. Даже известна стоянка Кумары III, на которой открыта камнеобрабатывающая мастерская, где изготавливались наконечники копий, ножи, скребки, резцы из пластин.
Не исключено, что все три района входят в одну культурно-историческую область, сопоставимую с описанными в Сибири. Эта область вряд ли ограничена Приморьем, Приамурьем и Сахалином. Она скорее всего включает и область Северного Китая, Корею, Японию. Но эти утверждения автора — не более, чем предположение.
Итак, можно считать установленным, что предки человека в Сибири появились на австралопитековой ступени их истории, хотя самих носителей этой культуры мы не знаем. Однако нет никаких оснований видеть какую-либо преемственность между культурой австралопитеков (или иных форм) Диринга и культурой последующих эпох, в частности питекантроповых обитателей Улалинки, а тем более неандертальца времени мустье на Алтае, в Хакасско-Минусинской котловине, на Северной Ангаре.
Безусловно, обезьяночеловек (неандерталец) этого типа заселил уже обширные пространства: Саяно-Алтай, Ангара, Верхняя Лена, Забайкалье и Приамурье. Обитатели этого времени были наверняка органично связаны со своими современниками в Монголии, Северном Китае, Казахстане, Средней Азии.
Не исключено, что самые поздние из них принимали участие в освоении Северной Америки (Проблемы тихоокеанской археологии, 1985).
Еще более обширны территории, освоенные в эпоху палеолита человеком современного типа (homo sapiens): районы его обитания включали все области Сибири. Надо думать, что homo sapiens в Сибири в своей истории как биологического типа прошел в это время и процесс расообразования. К этому времени наука относит процесс оформления человеческих рас большого порядка. Однако интересно, что верхнепалеолитическая культура Сибири обнаруживает бурно протекающий процесс культурной дифференциации. Об этом свидетельствуют описанные культурно-исторические общности и входящие в их состав культуры. С известной долей вероятности мы можем допустить, что это отражало также и явления расовой и лингвистической (этнической) дифференции. Разумеется, мы далеки от мысли допустить, что описанные культуры можно связывать с какими-то древними языковыми образованиями. Наверное, культуры верхнего палеолита не всегда совпадали с отдельными этносами, но эти последние скорее всего уже формируются. При той значительной разнице в культуре районов расселения homo sapiens в Сибири должны были быть соответствующие и расовые, и языковые, и этнические особенности этих групп.
Глава первая
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ
§ 1. Эпоха палеолита и мезолита
Палеолит (древний каменный век) получил свое название от греческого слова "палео " - древний и "литос " - камень. Это первый и самый длительный период истории человечества, начавшийся около двух миллионов лет назад.
В природе шли ритмические изменения, вызванные наступлением ледников. Западно-Сибирская равнина, где мы с вами проживаем, стала осваиваться человеком в конце палеолита, примерно 15-20 тыс. лет назад в самом конце ледникового периода. Наука, которая изучает этот древнейший период, называется археологией . Она изучает историческое прошлое человечества по вещественным памятникам (орудиям труда, утвари, оружию, жилищам, поселениям, укреплениям, местам погребения), основным способом открытия которых являются раскопки.
На территории нашей области сохранилось большое количество костей мамонтов, шерстистых носорогов и других животных, которые обитали вблизи ледников.
Процесс оледенения в нашем крае
Важнейшим фактором, влиявшим на смену климата и ландшафта за последние 2 миллиона лет, являлись ледники. Они то наступали, то откатывались назад, меняя климат нашего края. Отступая, ледник оставлял после себя вечную мерзлоту толщиной в несколько десятков, а то и сотен метров.
Этот период, охватывающий все ледниковые и межледниковые отрезки времени, носит название плейстоцена . Для Северной Азии принято деление плейстоцена на 5 периодов оледенения: шайтанское (500-400 тыс. лет от наших дней),самаровское (280-200 тыс. лет), тазовское (160-130 тыс. лет), зырянское (100-55 тыс. лет) и сартанское (25-10 тыс. лет).
Заселение человеком Сибири
Процесс заселения Сибири раннепалеотическим человеком был весьма длительным и сложным. Он осуществлялся из соседних с Сибирью районов Средней, Центральной и Восточной Азии и, возможно, через Южный Урал из Восточной Европы.
Находки, сделанные археологами, дают нам возможность судить о том, какими орудиями труда пользовался древний человек. Это были грубые, примитивные, рубящие орудия, почти необработанные, изготовленные из отщепов больших камней путем оббивки. При этом древний человек уже умел добывать огонь путем трения, сверления, высекания. Это происходит во второй половине раннего палеолита, когда начинаются резкие колебания климата, идет похолодание.
Овладение камнем и огнем позволило человеку перейти к использованию кости и дерева, приобрести некоторую независимость и оседлость. В качестве жилища древним человеком использовались естественные природные укрытия: гроты, скальные навесы, ущелья. А на стоянках, где таких укрытий не было, возможно, сооружались шалаши и навесы из веток деревьев.
О проникновении первых людей на южный и средний Урал свидетельствует стоянка Ельники II (у реки Сылвы), возраст которой около 250-350 тыс. лет.
На территории Тюменской области до настоящего времени не обнаружено стоянок палеолитического периода. Можно предположить: или они не найдены, или человек пришел сюда значительно позднее. Но на примере расположения археологических памятников Казахстана, Средней Азии и Восточной Сибири мы можем воссоздать картину расселения первобытного человека на востоке нашей страны (смотри карту).
Орудия труда древнего человека
Если ранее своими первыми орудиями труда человек пользовался просто захватывая их рукой, то в дальнейшем эти орудия прикреплялись к деревянным рукоятям. В настоящее время археологи применяют специальный метод исследования орудий труда древних людей, называемый трасологией . Он заключается в том, что ученые по изношенности рабочей поверхности орудия, делают вывод для чего оно предназначалось.
Средний палеолит
 В то же время, кроме изделий из камня, человек стал широко пользоваться такими материалами как кость, дерево, изготовляя из них: шилья, наконечники, острия. Люди уже не уходят далеко от мест своего проживания, а осваивают близлежащие территории. Археологами обнаружены на местах пребывания человека того времени культурные слои, достигающие глубины до 4-х метров. Это говорит о длительном пребывании людей в данных местах. В этот период начинается продвижение человека на средний и северный Урал.
В то же время, кроме изделий из камня, человек стал широко пользоваться такими материалами как кость, дерево, изготовляя из них: шилья, наконечники, острия. Люди уже не уходят далеко от мест своего проживания, а осваивают близлежащие территории. Археологами обнаружены на местах пребывания человека того времени культурные слои, достигающие глубины до 4-х метров. Это говорит о длительном пребывании людей в данных местах. В этот период начинается продвижение человека на средний и северный Урал.
К эпохе среднего палеолита относятся и первые погребения людей. Факт захоронения умерших вблизи жилья говорит о зарождении первых анимистических представлений. (Анимизм - от латинского анима - душа, донаучное представление первобытных народов, согласно которому каждая вещь имеет душу. Анимизм лежит в основе религиозных верований).
Поздний палеолит
 Неандерталец
в эпоху позднего палеолита превращается в человека современного физического типа, почти не отличающегося от нас.
Неандерталец
в эпоху позднего палеолита превращается в человека современного физического типа, почти не отличающегося от нас.
Эпоха позднего палеолита продолжалась от 40 до 10 тыс. лет до новой эры. Это время формирования главных человеческих рас.
Человек совершенствует формы охоты: кроме старой коллективной загонной формы появляются и индивидуальные, об этом свидетельствуют применяемые ими метательные орудия: дротики, гарпуны, копья. Совершенствуется домостроительство, появляются долговременные жилища, углубленные в землю.
Наскальные росписи

Усложняются идеологические представления - появляются первые наскальные росписи в пещерах. Это изображения животных: мамонта, лошади, быка, верблюда; женские фигуры, абстрактные рисунки.
В позднем палеолите возникают формы первобытной религии: анимизм, тотемизм и магия.
Освоение новых территорий
Человек продвигается вслед за отступающим ледником. На Урале для этого времени известны стоянки на западном склоне гор - Островская им. Талицкого, грот Столбовой, Медвежья пещера и другие.
Расширился Алтайский и Южно-Сибирский ареал обитания. Были заселены верховья рек Оби, Енисея, Ангары, Лены, Алдана. К этому же времени относятся стоянки на Камчатке и первые поселения в Северной Америке.
Но Западная Сибирь по-прежнему оставалась безлюдной, поскольку близость ледника не позволяла человеку осваивать просторы нашего края. Однако низменности Западной Сибири продолжают давать приют мамонтам и другим хладостойким животным, что и явилось причиной появления к концу ледникового периода на южных и восточных окраинах единичных археологических памятников в Барабинской степи, на среднем Иртыше, в Курганской области, на нижней Оби. Но отсутствие каких-либо следов жилья заставляет считать их кратковременными охотничьими лагерями. Они содержат огромное количество костей мамонта, единичны находки костей шерстистого носорога, зубра, лошади, сайги, волка, лося, зайца, лисы.
§ 2. Эпоха мезолита (9-6 тыс. до н. э.)
Изменение климата в Сибири
Именно в этот период началось более активное заселение человеком Западной Сибири. Происходит сокращение обводненности Западно-Сибирской низменности. Если посмотреть на карту Западной Сибири, то вся она как бы опутана сетью больших и малых озер и болот. Это следы "работы" ледников, как и вечная мерзлота, южные границы которой и в настоящее время доходят до широты Ханты-Мансийска.
Эпоха мезолита совпадает с наступлением современной климатической обстановки. При этом произошла достаточно резкая смена климата, что повлекло за собой увлажнение и смягчение всего климата Сибири, а так же привело к значительному общему потеплению. Это, в свою очередь, вызвало быстрое исчезновение ледниковой фауны. (Хотя высказываются смелые предположения, что такие животные, как мамонт, шерстистый носорог, были просто истреблены людьми).
Заселение Западной Сибири шло с Запада (с Урала) и с Юга: Казахстана, Алтая и Верхней Оби. Люди начинают изготовлять лодки, что существенно помогало им освоению таежных просторов.
Орудия труда
Основным материалом для изготовления орудий становится кость и дерево, что неудивительно, так как в таежной Сибири камень большая редкость. Поэтому каменные предметы и просто камни, которые имеют хотя бы немного необычную форму, со временем стали почитаться как священные. Шире стала практиковаться рыбная ловля.
В это время начинают формироваться различные языковые семьи. На нашей территории распространена уральская языковая семья.
В период мезолита распространяется новая микролитическая техника обработки камня: используются тонкие ножевидные пластины, начинают применяться вкладышевые орудия. В связи с этим появляется огромное количество режущих инструментов - резцы, ножи и пр.
§ 3. Эпоха неолита - энеолита (6-3 тыс. до н.э.)
Неолит или новокаменный век, совпадает для Сибири со значительным смягчением климата, который был даже более благоприятен, чем нынешний, как для растительности, так и для животного мира: полноводные реки изобиловали рыбой, леса - птицей и зверем. Сибирская природа была благоприятна для жизнедеятельности первобытных охотников и рыболовов. Именно поэтому осваиваются человеком самые отдаленные уголки Северной Азии.
Эпоху неолита называют еще временем неолитической революции , поскольку именно тогда в южных регионах Евразии начало развиваться земледелие и скотоводство - хозяйство производящего типа . Но надо помнить, что переход к производящему хозяйству был процессом длительным, зависящим от множества факторов.
Археологические культуры Западной Сибири
В пределах Западной Сибири археологи выделяют несколько археологических культур: восточноуральскую - в лесном Зауралье и ближайших к нему районах Западной Сибири; среднеиртышскую - по среднему течению Иртыша и верхнеобскую - в лесном Приобье.
Реконструированные археологами жилища людей неолитического периода (полуземлянки) говорят об их оседлом образе жизни местного населения.
Большое количество орудий охоты и обработки добычи говорят о значительной роли охоты для местных жителей. Очень часто встречаются изображения лося в мелкой пластике Зауралья и в каменных гравюрах Томской писаницы. По всей видимости, в основе этих изображений лежала первобытная охотничья магия.
Совершенствовались формы и способы охоты. Широчайшее применение лука и стрел сочеталось с развитием приемов пассивной охоты с помощью петель, силков, различных ловушек.
Большое значение играла и рыбная ловля, поскольку грузила от сетей обычны на всех западно-сибирских стоянках. А находки каменных и костяных крючков, гарпунов говорят о широком распространении индивидуальных способов ловли рыбы.
На всей территории Западной Сибири в этот период велось комплексное присваивающее хозяйство , где преобладали оседлые охотники и рыболовы без явно выраженной специализации в хозяйстве.
Археологические культуры Западной Сибири входят в урало-сибирскую этнокультурную общность, которую в языковом отношении можно связать с восточной или праугро-самодийской ветвью уральской семьи.
Появление керамики
В этот же период вошел в обиход такой новый не использованный раньше материал как глина
. Появилась глиняная посуда, что говорит о распространении новых способов приготовления пищи - варке на огне. Появление керамики открыло эру гончарства
, быстро превратившегося в одно из самых необходимых домашних производств.
 Керамика является уникальным археологическим источником, хранящим разнообразную информацию. Изменение форм сосуда и орнамента ученые связывают с демографическими и этническими процессами прошлого. Иногда керамика использовалась в качестве погребальных урн. В керамических сосудах устраивали светильники, использовали их для переноски угля. Смена изобразительных традиций означает изменения в реальной жизни: смену населения, изменения в идеологических представлениях, взаимопроникновение, внутреннее совершенствование, демографическую катастрофу.
Керамика является уникальным археологическим источником, хранящим разнообразную информацию. Изменение форм сосуда и орнамента ученые связывают с демографическими и этническими процессами прошлого. Иногда керамика использовалась в качестве погребальных урн. В керамических сосудах устраивали светильники, использовали их для переноски угля. Смена изобразительных традиций означает изменения в реальной жизни: смену населения, изменения в идеологических представлениях, взаимопроникновение, внутреннее совершенствование, демографическую катастрофу.
Первые металлические изделия
Во второй половине III-го тыс. до нашей эры в южных районах Сибири появляются первые металлические изделия , ознаменовавшие конец каменного века. Первый металл, из которого люди научились делать орудия труда, была медь. Период распространения орудий из меди и ее сплавов (различных видов бронзы) получил название эпохи раннего металла .
Первый период данной эпохи называют энеолитом (медно-каменным веком). Причем, с появлением бронзы продолжают сохраняться и каменные изделия, которые затем постепенно вытесняются более совершенными металлическими орудиями труда из обихода человека.
Появление лыж и нарт
С эпохой энеолита связывают изобретение лыж и нарт, позволяющих существенно повысить отдачу от охотничьего промысла и широкое распространение рыболовства, особенно в низменных, таежных районах Западной Сибири, где оно становится преобладающей отраслью хозяйства. Об этом говорят многочисленные находки рыболовных грузил, не встречающихся в более ранних памятниках.
На Горбуновском торфянике во время раскопок были найдены грузила в виде заполненных камнями берестяных мешочках, поплавки из бересты и сосновой коры, многочисленные обломки деревянных весел.
Присваивающее и производящее хозяйство
Если в таежной зоне жили племена с присваивающим охотничье-рыболовческим типом хозяйства, то южной лесостепной и особенно степной зоне племена стали применять у себя элементы производящего хозяйства - придомного скотоводства .
Степные племена раньше чем лесные перешли к металлообработке. Как показали анализы, вещи энеолитического времени изготовлялись из чистой меди способом ковки или выплавки в открытых литейных формах.
В позднем неолите-энеолите Уральская языковая общность распадается на протоугров, протосамодийцев и предков финно-пермских народов.
§ 4. Эпоха бронзы
Второй период раннего металла называют бронзовым веком . Бронзу получали путем добавки к меди олова, в результате чего изделия приобретали большую твердость.
Сибирь делится надвое
Но в Западной Сибири залежи медных руд встречаются далеко не везде, а лишь в областях Урала и Алтая. Поэтому эпоха раннего металла не стала универсальной стадией в культурно-историческом развитии всего сибирского населения. Эпохе раннего металла суждено было разделить Сибирь на два мира: степной-лесостепной , населенный скотоводами и земледельцами, и таежный , где обитали охотники и рыболовы.
Во второй половине III-го тыс. до н. э. медные изделия (шилья, ножи) появляются в лесном Зауралье и прилегающих районах Западной Сибири. Хотя в хозяйстве Зауральского
населения не произошло принципиальных изменений, археологические источники фиксируют возрастание удельного веса рыболовства, что позволило при оседлости населения значительно увеличить его плотность.
Формирование первых культур
В первой половине II-го тыс. до н. э. формируются такие культуры как кротовская, самусьская - в верхнем Приобье, которые характеризуются производством высококачественных бронзовых изделий: наконечников копий, кельтов , стрел, культовых изделий (изображения птиц, голов лосей, медведя с раскрытой пастью, человеческих ног). Бронзолитейное ремесло, возможно, уже стало делом специалистов.
Андроновская культура
Во второй половине II-го тыс. до н. э. юг Западной Сибири занимали племена самобытной андроновской культуры . Андроновцы вели многоотраслевое хозяйство: кроме животноводства занимались земледелием, может быть даже пашенным; на поселениях и в некоторых могилах встречаются большие каменные зернотерки , бронзовые серпы , секачи . Им была знакома верховая езда и бронзолитейное ремесло. К концу II-го тыс. до н. э. на юге Западной Сибири формируется новое позднебронзовое поколение культур андроновской семьи: бархатовская, сузгунская , в Томско-Нарымском Приобье сформировалась еловская культура.
Появление железа
Появление цветной металлургии неизбежно привело к металлургии железа, которая быстро распространилась по причине доступности сырья. Даже в глубинных таежных районах довольно скоро научились использовать болотную руду.
Время становления черной металлургии обычно называют ранним железным веком (2-я половина I-го тыс. до н. э. -1-я половина I-го тыс. н. э.).
Расслоение в обществе
В степной полосе скотоводство переходит в подвижную кочевую форму, когда хозяева стада вынуждены постоянно менять место выпаса, уходя довольно далеко от своих традиционных мест проживания, иногда покидая их навсегда. Производящие формы хозяйства приводят к имущественному расслоению общества . Об этом говорят материалы, полученные при раскопках могильников. Бедняков хоронили под небольшими курганами в мелких грунтовых ямах. Над могилами богатых людей (князей, старейшин) воздвигались монументальные дерновые пирамиды, достигавшие десятков метров в поперечнике.
В тоже время в глубине тайги, почти полностью изолированной от бурных событий на юге, в начале железного века сохранился прежний уклад жизни.
Рубежом эпохи раннего железа и средневековья считается середина 1-го тысячелетия н.э. - время Великого переселения народов . Это период формирования тех народов, которые до настоящего времени проживают на территории Западной Сибири: обских угров (хантов, манси) и сибирских татар .
С XIII в. начинается активная тюркизация хантыйского населения. Формируются различные группы иртышских татар (тарских, тевризских, тобольских, заболотных ).
§ 5. Наш край в раннем железном веке и средневековье
В районах Приуралья, в сибирских лесостепях, в лесной зоне и тундрах Западной Сибири в эпоху бронзы и в раннем железном веке жили многочисленные племена, - близкие друг другу по культуре, но весьма своеобразные по укладу и ведению хозяйства.
В Нижнем Приобье - это усть-полуйская культура.
В Тобольском Приобье - потчевашская .
В Среднем и Южном Зауралье - гамаюнская , а затем исетская и иткульская .
В лесостепях Прииртышья, Притоболья и Зауралья - саргатская и гороховская .
В Нарымском Приобье - кулайская .
В лесной части Верхнего Приобья - болышереченская .
Если рассматривать население, обитаемое в то время в этих регионах, то в Прииртышье и Нижнем Приобье жили праугорские народы, предки современных манси (вогулов) и хантов (остяков). Племена Среднего и Верхнего Приобья были прасамоедские , т. е. предки ненцев, селькупов, юраков.
Усть-полуйская культура
Наиболее хорошо археологами изучено Усть-Полуйское городище в низовьях Оби, давшее название одноименной культуре. Владения усть-полуйцев простирались от устья Оби и до устья Иртыша (до современного Ханты-Мансийска). На западе они доходили до Северной Сосьвы, Верхней Тавды, Северного Приуралья.
Главным занятием усть-полуйцев была охота на дикого северного оленя. Они пользовались длинными костяными наконечниками на копьях, имеющих длину около 25 см. Древние охотники поджидали животных в местах осенних переправ и там нападали на них большими группами. Существовал и другой способ, когда оленя подманивали с помощью прирученного оленя-манщика, находящегося на привязи. Охотник в это время находился в засаде и поражал приблизившегося смельчака копьем или стрелой из лука.
Добывали соболя, выдру, бобра и разнообразную птицу. Очень интересен был лук усть-полуйцев, который делался из дерева и кости. Очень разнообразны наконечники стрел из кости, рога оленя и бронзовые. Они были трехгранными, ромбическими, с шипами и т. п.
Для добычи рыбы главным орудием была острога с тремя зубцами. Этим орудием удобно было добывать рыбу на многочисленных протоках, на песчаных отмелях. Для задержки рыбы сооружали запоры из жердей, которыми перегораживали небольшие речки. Одежда изготовлялась из оленьих и лосиных шкур, оторачивалась мехом песца. Она очень походит на современную одежду северных народов, которые вместо шапки используют капюшон, отделанный мехом. Мех песца удобен именно тем, что на него не намерзает иней и он хорошо спасает от холода.
В Усть-Полуйском городище найдено множество железных ножей, которыми обрабатывалось дерево и кость. Они были настолько изношены, что выбрасывались за ненадобностью. Вероятно, железо в то время было достаточно дорогим и поэтому ножом старались пользоваться как можно дольше, затачивая его до тех пор, пока это было возможно.
 Там же обнаружена и бронзолитейная мастерская
, в которой изготовлялись бронзовые наконечники стрел, кельты (топоры), различные украшения, фигурки животных.
Там же обнаружена и бронзолитейная мастерская
, в которой изготовлялись бронзовые наконечники стрел, кельты (топоры), различные украшения, фигурки животных.
При еде усть-полуйцы пользовались костяными ложками, ручки которых украшались фигурками животных и птиц. Вырезали ложки из оленьего рога, моржового и мамонтового бивня, а также из грудных костей крупных водоплавающих птиц.
Усть-полуйцы вели оседлый образ жизни, строили полуземлянки, шалаши, которые зимой присыпались сверху снегом. Возле Салехарда была раскопана землянка площадью около 100 кв. м с очагом и земляными спальными нарами вдоль стен. Крыша поддерживалась вертикальными столбами. В таком жилище могла поместиться довольно большая семья или группа людей от 20 до 50 человек.
Занимались усть-полуйцы и добычей морского зверя на побережье. Соседствуя, с одной стороны, с северными арктическими народностями, а с другой - с южанами, они являлись носителями элементов обеих культур. Южане же принесли к ним железо в I тыс. до н. э. и научили обрабатывать, что позволило усть-полуйцам намного опередить в развитии своих северных соседей, стать могущественными, подчинить себе отдельные племена.
Саргатская и гороховская культуры
Население лесостепного Зауралья и Западной Сибири, проживающее в низовьях рек Исети, Миасса, Синары, среднему Тоболу, относят к саргатской и гороховской культурам.
Они вели полуоседлый образ жизни, занимались преимущественно скотоводством, благодаря обширным пастбищам. Половину стада составляли лошади, которые были значительно крупнее тех, что разводились в лесных районах.
Земледелие было, примерно, на том же уровне, что и у соседних народов. Рыбная ловля играла незначительную роль. Изредка занимались охотой на лося, косулю.
Шкурки пушных зверей шли на украшение одежды, а также для обмена с южными племенами. Хорошо было развито прядение и ткачество, гончарное производство.
Важное место занимала металлургия: изготовлялись наконечники стрел, копий, боевые топоры, мечи, кинжалы.
Эти племена были довольно воинственны, стараясь обогатиться за счет набегов на своих соседей. Из исследования их захоронений следует, что практически каждый мужчина являлся воином. Возле Челябинска у деревни Сапоговой Буринского района найдены литые бронзовые изображения таких воинов. Они имели бронзовый меч, короткий кинжал, который носили на правом боку в ножнах возле бедра. Колчан с луком и стрелами помещался за спиной с левой стороны.
Их племена воевали с народами Средней Азии, но при этом были в дружественных отношениях и вели торговлю с жителями лесных зон Приуралья и Прииртышья. На Урале они добывали руду, а у лесных народов выменивали пушнину.
Потчевашская культура
Потчевашская культура получила свое назначение по довольно хорошо изученному комплексу памятников, находящихся на южной окраине современного Тобольска на берегу Иртыша, в местечке, называемом Подчеваши .
Племена, представляющие эту культуру, жили вверх по Иртышу до низовьев рек Вагая и Иртыша, а также в районах Тары и Саргатки.
Подчевашское городище было устроено на высоком берегу Иртыша, что давало хороший обзор окрестностей, соседствовало с густым лесом, куда можно было скрыться в случае опасности, и одновременно близость воды позволяла заниматься рыбной ловлей.
Перевод слова "чеваши " или в русской интерпретации "потчеваши " имеет несколько толкований. По одному из них (с угорского) - "поселение на склоне горы ".
Чем же занимались потчевашцы , как добывали себе пропитание, что преобладало в их хозяйствах?
Главной пищей для них являлась рыба, которую добывали как летом, так и зимой и в Иртыше, и в ближайших озерах. Об этом свидетельствуют многочисленные рыбные кости, чешуя, найденные в культурных слоях поселения, а также приспособления для рыбной ловли.
Крючки и гарпуны, остроги были как бронзовые, так и костяные. Сети плелись из подсобного растительного волокна: крапивы, конопли.
Разводили они и домашний скот. Лошадь использовалась как тягловое животное. Мотыги из роговых пластин хорошо отполированы от долгого употребления. Следовательно, подчевашцы занимались и земледелием. В курганах обнаружены зерна ячменя.
Очень интересны находки вылепленных из глины фигурок коней и всадников в седле, что говорит о возможных военных столкновениях потчевашцев с соседями.
Разделение общины на семьи
В этот период происходит распад первобытного родового общества, обособление на отдельные семьи, домовые коллективы. Об этом говорит и личный знак, найденный на вещах, - тамга . Он являлся знаком собственности того или иного лица и имел различную форму: круг, стрелу, птичью лапку, рога и т.п. Большинство таких знаков встречается на женских вещах, и они отличаются от знаков данного рода. Значит, женщин брали в семьи из других родов. Возможно на основе этого происходили военные столкновения, заканчивающиеся часто крупными войнами. Об этом же говорят легенды и предания обских угров .
В тот же период возникают и укрепленные городища на севере Западной Сибири. Вероятно, отдельные роды становились более сильными, накапливали богатство, что вызывало противостояние между ними.
Таким образом, к концу I тысячелетия до нашей эры сложились устойчивые племенные союзы, имеющие собственные пути развития. Их культуры были близки одна другой, оказывали влияние друг на друга, находясь в постоянном контакте. Но государственного устройства в привычном для нас смысле этого слова еще не было.
]