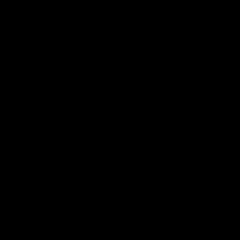Процесс зиновьева и каменева. «На месте Зиновьева я бы застрелился
Советский суд в шутку называли самым гуманным в мире, но шутить над его вердиктами никто не хотел: они предполагали не только длительные сроки заключения, но и смертную казнь.
Дело «Весна» (1930-31)
В самом начале 1930-х годов в СССР началась первая волна больших репрессий, вошедшая в историю, как дело «Весна». Целью преследования со стороны советского руководства стали офицеры РККА, служившие ранее в рядах Русской Императорской армии. В числе осужденных также были белые эмигранты, решившие добровольно вернуться в СССР.
Инициатором процесса считают члена ОГПУ Израиля Леплевского, который при поддержке Генриха Ягоды арестовал более 3000 человек.
Многие из них были расстреляны. Среди осужденных оказались такие известные личности, как Владимир Ольдерогге – командующий Восточным фронтом РККА и Александр Свечин – выдающийся военный теоретик, автор классического туда «Стратегия». Свечин был отпущен уже в 1932 году и семь лет служил в разведке и Академии Генштаба РККА, пока не попал под новый виток процессов в 1937 году.
Историки основной причиной дела «Весна» называют напряженную внешнеполитическую ситуацию, при которой советское руководство ожидало активизации белого движения как за рубежом, так и внутри страны.
Процесс Зиновьева – Каменева (1934-36)

Это дело получило известность как «процесс 16-ти». Столько человек было осуждено и расстреляно за участие в так называемом «троцкистско-зиновьевском заговоре» с целью ликвидации Сталина и еще некоторых членов правительства.
Ниточки к этому процессу тянутся с 1932 года, когда Троцкий публично предложил сменить генерального секретаря.
Группа из 16 человек обвинялась в том, что в соответствии с директивой Троцкого создала террористический центр для ликвидации руководителей Советского правительства – Сталина, Ворошилова, Орджоникидзе, Жданова, им же вменялась организация убийства Кирова.
Процесс оказался уникален тем, что на нем не было предоставлено ни одной улики, подтверждающей обвинения. В июне 1988 года Верховный суд СССР реабилитировал осужденных за отсутствием состава преступления.
Дело Тухачевского (1937)

Маршал Тухачевский был главным фигурантом дела по которому членов антисоветской троцкистской военной организации обвиняли в связях с немецким Генштабом, подготовке террористических актов против членов Политбюро и разработке плана по вооруженному захвату Кремля.
Сведения о предстоящем заговоре во главе с Тухачевским были получены от чешских дипломатов, однако до сих пор подлинность документов не была установлена.
Известно, что маршал написал признательные показания, впрочем, специалисты уверены, что они были даны под пытками или под воздействием психотропных средств.
Тухачевского расстреляли 11 июня 1937 года сразу же после закрытого судебного заседания. 31 января 1957 года он был посмертно оправдан и реабилитирован.
Дело Стрельцова (1958)

Ни одно уголовное дело не обросло таким количеством слухов и сплетен как «стрельцовское». Сегодня некоторые исследователи даже допускают вмешательство западных агентов с целью скомпрометировать футболиста, лишив его возможности выступать на чемпионате мира. Нет полной уверенности, что именно Стрельцов был причастен к изнасилованию.
Среди объяснения причин произошедшего выделяются такие версии, как наказание «зарвавшегося» кумира молодежи, исключение попытки Стрельцова остаться в Швеции, ослабление «Торпедо» и персональная месть Фурцевой.
Последняя выглядит наиболее правдоподобно, учитывая то, что спортсмен осмелился повысить голос на высокопоставленного чиновника.
Эдуарду Стрельцову присудили 12 лет лишения свободы, через 5 лет он был досрочно освобожден.
Дело Рокотова (1961)

Это было начало эры фарцовщиков. Первыми жертвами правосудия за участие в незаконных валютных операциях стали Рокотов, Файбишенко и Яковлев. Это трио обвинялось в организации сложной системы посредников для скупки иностранной валюты и товаров у зарубежных туристов.
Долгое время Рокотов действовал безнаказанно, так как был осведомителем ОБХСС.
Но в 1960 году Рокотов с подельниками все же был арестован после изъятия валюты и золота на сумму около 1,5 миллионов долларов. Им присудили 8 лет лишения свободы. В дело вмешался Хрущев и потребовал более жесткого наказания – срок был увеличен до 15 лет.
На этом дело не закончилось. Политбюро в спешном порядке инициировало указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций». Произошел беспрецедентный случай: все три обвиняемых были приговорены к расстрелу по закону, принятому после совершения деяния.
Суд над армянскими террористами (1979)

В январе 1977 года Москву потрясли три взрыва – в вагоне метро между станциями «Измайловская и «Первомайская», в магазине на Лубянке, а также возле магазина по улице 25 Октября (ныне Никольская).
В результате взрывов 7 человек погибло (все во время взрыва в метро) и 37 оказались ранеными.
Долгое время следствие не могло выйти на предполагаемых террористов. Но в октябре 1977 года на Курском вокзале была предотвращена попытка еще одного теракта. Улики вывели оперативников на группу армян, входивших в националистическую организацию, целью которой было создание независимой Армении.
Закрытый процесс проходил с 16 по 20 января 1979 года. Подозреваемые свою вину не отрицали и 24 января были приговорены к высшей мере наказания. Впрочем, тогда в среде советских диссидентов существовало убеждение в фальсификации процесса и возможной причастности к взрывам КГБ – по их заявлению, все обвиняемые имели алиби.
«Рыбное дело» (конец 1970-х – начало 1980-х)

В конце 1970-х годов в поле зрения сотрудников КГБ попали Генеральный директор торгово-производственной фирмы «Океан» Фельдман и директор одного из фирменных магазинов Фишман. Как оказалось, обвиняемые вывозили крупные суммы денег во время турне по социалистическим странам и, обменивая их на валюту, переправляли на Запад. Так они готовили почву для выезда из СССР.
В ходе следствия была вскрыта крупная криминальная сеть, занимавшаяся контрабандой черной икры.
Ключевым фигурантом дела оказался замминистра рыбного хозяйства СССР Владимир Рытов. Чиновнику было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму в несколько сот тысяч рублей, за что он был приговорен к смертной казни.
Из этого процесса выросло так называемой «сочинско-краснодарское» дело, в котором по обвинению в коррупции проходили председатель Сочинского горисполкома Воронков и первый секретарь Краснодарского крайкома Медунов. В ходе этого дела более 5000 чиновников были уволены со своих постов, примерно 1500 человек осуждены и получили немалые сроки.
«Хлопковое дело» (1980-е)

Расследование экономических и коррупционных злоупотреблений в Узбекской ССР имело огромный резонанс и вылилось в 800 уголовных дел, по которым было осуждено свыше 4 тыс. человек по обвинению в приписках, взятках и хищениях.
Полный ход «Хлопковому делу» дал пришедший в 1983 году к власти Андропов, у которого сложились неприязненные отношения с Первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана Рашидовым.
Расследования по «Хлопковому делу» продлились до 1989 года, в ходе которых были произведены громкие аресты, в том числе, бывшего министра хлопкоочистительной промышленности Узбекистана В. Усманова и зятя Брежнева, бывшего заместителя
Министра внутренних дел СССР Ю. Чурбанова. Усманова приговорили к высшей мере, а Чурбанову дали 12 лет с конфискацией имущества.
«Елисеевское дело» (1984)

Крупнейшее дело о хищениях в советской торговле было также инициировано Андроповым. О важности этого дела свидетельствует тот факт, что оно расследовалось исключительно сотрудниками КГБ, без привлечения МВД.
Тогда по обвинению во взяточничестве был арестован директор гастронома «Елисеевский» Юрий Соколов.
Он долго отрицал свою вину, но когда понял, что люди, которые им «пользовались» не предпринимают усилий к его спасению – заговорил.
В итоге было выявлено, что в коррупционные связи оказались вовлечены 757 человек – от директоров магазинов до руководителей торговли Москвы и страны. Следствие пришло к выводу, что государству нанесен общий ущерб в 3 миллиона советских рублей.
Сотрудничество со следствием Соколова не спасло, 14 декабря 1984 года он был приговорен к высшей мере наказания.
Существуют имена, не мыслимые одно без другого. Как физический закон Бойля- Мариотта, так и имена Григория Евсеевича Радомысльского (Зиновьева) и Льва Борисовича Розенфельда (Каменева) связаны в истории СССР неразрывно. Это были политические близнецы не только по возрасту (оба родились в 1883 году и погибли в 1936 году), но и по политическим взглядам. Оба были сподвижниками В.И. Ленина и «прославились» тем, что в 1917 году, накануне Октябрьского восстания, оба выступали категорически против захвата власти большевиками, о чем и заявили в прессе. За это Ленин назвал их «предателями». Это, впрочем, не помешало «близнецам» занимать видные посты в партийных и советских органах. Так, Зиновьев с декабря 1917 года был председателем Петроградского совета, именно на нем лежит ответственность за организацию массовых расстрелов невинных людей в годы «красного террора». Каменев с ноября 1917 года был председателем ВЦИК, а с 1917 по 1926 год председателем Моссовета. Примечательно, что после потери дееспособности В.И. Лениным именно он предложил назначить И.В. Сталина на пост генерального секретаря партии - пост тогда незначительный и связанный с рутинной бумажной работой, пост, которому только Сталин сумел придать истинный блеск. Впрочем, когда Сталин стал прибирать к рукам власть, не кто иной, как Каменев на XIV съезде партии в 1925 году осмелился открыто заявить:
«Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнять роли объединителя большевистского штаба… Мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя!» - после этого заявления Каменев был обречен, с этого мгновения его ждали подвалы Лубянки.
Он, как и Зиновьев, как и многие другие «пламенные ленинцы», не мог понять, что социалистическое государство не может не быть авторитарным, а сила авторитарного государства держится на непререкаемом авторитете именно вождя. В силу этих причин «ленинцы» первыми после уничтожения классовых врагов были обречены занять их места в концлагерях.
Зимой 1935 года органы НКВД арестовали в Москве большую группу сотрудников кремлевских учреждений. Им предъявили тягчайшее по тем временам обвинение в подготовке покушения на жизнь вождя. Организатором заговора назвали Л.Б. Каменева.
«Тов. И.В. Сталину.
Сейчас, 16 декабря в 19.50 вечера, группа чекистов явилась ко мне на квартиру и производит у меня обыск… Ни в чем, ни в чем, ни в чем я не виноват перед партией, перед ЦК и перед Вами лично. Клянусь Вам всем, что только может быть свято для большевика, клянусь Вам памятью Ленина. Я не могу себе и представить, что могло бы вызвать подозрение против меня. Умоляю Вас поверить этому честному слову. Потрясен до глубины души.
Г. Зиновьев».
Обращение Зиновьева осталось без ответа.
В тот же вечер был арестован и Каменев. Он тоже пытался найти путь к чувствам товарища по партии, с которым некогда довелось провести не один день в далекой сибирской ссылке. Но тщетно.
В ходе расследования состав группы заговорщиков быстро расширялся. В сетях НКВД оказываются родственники, друзья, знакомые арестованных и даже случайные лица, имевшие несчастье встречаться с ними.
Всем этим людям приписывались связи с троцкистами и меньшевиками, белогвардейцами и монархистами, русскими эмигрантами и иностранной разведкой.
Дело получило глобальный размах. Средства массовой информации нагнетали невиданную истерию вокруг процесса. Теперь несчастным, обездоленным, полуголодным массам стало ясным, кто виновен во всех их бедах.
В первоначальном варианте обвинительного заключения отмечается, что Зиновьев и Каменев виновными себя не признали. Однако это обвинительное заключение к уголовному делу приобщено не было.
В ночь с 13 на 14 января 1935 года в подвалах Лубянки творилось нечто страшное, ибо на следующий день все обвиняемые дружно признали себя виновными по всем пунктам предъявленного обвинения, даже в убийстве Кирова. Обвинительное заключение было соответствующим образом исправлено.
15 января 1935 года в Ленинграде началось закрытое судебное разбирательство по делу «московского центра». Сохранилось свидетельство очевидца, что перед началом заседания следователь Рутковский обратился к подсудимому Каменеву со словами:
«Лев Борисович, вы мне верьте, вам будет сохранена жизнь, если вы на суде подтвердите свои показания».
Но Каменев ответил, что он ни в чем не виноват. Рутковский же продолжал настаивать:
«Учтите, вас будет слушать весь мир. Это нужно для мира». Первый суд приговорил «главного организатора и наиболее активного руководителя подпольной контрреволюционной группы» Зиновьева к 10 годам лишения свободы, «менее активного» члена «московского центра» Каменева к 5 годам. После оглашения обвинительного приговора по делу «московского центра» волна общественного возмущения происками «зиновьевцев» захлестнула всю страну. Эти настроения подогревало убийство Кирова, ответственность за которое прямо возлагалось на «зиновьевцев».
Сталину, однако, процесс показался недостаточно масштабным. И он дал указания привлечь к этому делу не только «зиновьевцев», но и «троцкистов». Так возник сценарий нового грандиозного процесса по делу «объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
Из мест заключения были возвращены Каменев и Зиновьев, к ним добавили осужденных по делу «московского центра» «троцкистов» и недавно прибывших в СССР членов Компартии Германии.
К тому времени наиболее сломленным, падшим духом был основной обвиняемый - Зиновьев. Из тюремной камеры он писал отчаянные письма Сталину.
«В моей душе горит одно желание: доказать Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это… Я… подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели Вы не видите, что я Ваш душой и телом, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение, снисхождение».
Незадолго до суда по всем партийным организациям страны было разослано закрытое письмо ЦК ВКП (б) «О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока». В нем прямо указывалось, что С.М. Киров был убит по решению «объединенного» центра этого блока. Кроме того, подчеркивалось, что «центр» «основной и главной задачей ставил убийство товарища Сталина, Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Жданова, Костора, Постышева». Как показывает сохранившийся в архиве ЦК КПСС рабочий экземпляр закрытого письма, эти фамилии были внесены в текст рукой Сталина. Судьба подсудимых была предрешена. 19 августа 1936 года Военная коллегия Верховного суда СССР приступила к открытому слушанию дела.
После оглашения обвинительного заключения прозвучал обязательный вопрос председательствующего к подсудимым: признают ли они себя виновными. Из 16 обвиненных вину признали 14, в том числе Зиновьев и Каменев. Они же призвали «нераскаявшихся» сознаться.
Полностью утратил самообладание Зиновьев. В первый же день процесса он принял на себя не только моральную и политическую, но и уголовную ответственность за убийство Кирова, подготовку других актов террора. Несколько большую стойкость в начале процесса проявил Каменев. Он, в частности, отверг попытки обвинения инкриминировать им «намерение физически устранить потенциальных свидетелей заговора». Однако в дальнейшем Каменев сдался. Чего стоит его заявление по поводу подготовки убийства Кирова.
«Я не знал, как практически шла эта подготовка, потому что практическое руководство по организации этого террористического акта осуществлял не я, а Зиновьев».
Между тем следствие не располагало даже какими бы то ни было фактическими доказательствами подготовки заговора - ножами, бомбами, револьверами. Поражало также количество неудач горе-террористов. Ни один из перечисленных на суде терактов не удался. Из последнего слова подсудимого Зиновьева: «Партия видела, куда мы идем, и предостерегала нас… Мой искаженный большевизм превратился в антибольшевизм, а через троцкизм я перешел к фашизму». Последнее слово Каменева:
«Какой бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным».
Наверное, они еще верили в справедливость, еще надеялись на снисхождение. После вечернего заседания 23 августа суд удалился на совещание. Оглашение приговора ожидалось к полудню следующего дня. Однако глубокой ночью подсудимые снова были доставлены в Октябрьский зал Дома Союзов. В 2 часа 30 минут Ульрих огласил приговор.
Все подсудимые признавались виновными по статье 58-8 (совершение террористического акта) и статье 58–11 (организация деятельности, направленная к совершению контрреволюционных преступлений) Уголовного кодекса РСФСР. Все приговаривались к расстрелу с конфискацией.
По закону осужденные к смертной казни имели право в течение 73 часов обратиться в Президиум ЦИК СССР с ходатайством о помиловании.
Первым поспешил воспользоваться этой возможностью Зиновьев.
«В Президиум ЦИК СССР.
Заявление
О совершенных мною преступлениях против Партии и Советской Власти я сказал до конца пролетарскому суду.
Прошу мне верить, что врагом я больше не являюсь и остаток своих сил горячо желаю отдать социалистической родине.
Я прошу Президиум ЦИК СССР о помиловании меня.
Несколько часов спустя поступило ходатайство Каменева. Оно написано предельно кратко; чувствуется, как непросто дались осужденному эти несколько строк. «Глубоко раскаиваюсь в тягчайших моих преступлениях перед пролетарской революцией, прошу, если Президиум не найдет это противоречащим будущему делу социализма, дела Ленина и Сталина, сохранить мне жизнь. Л. Каменев».
Президиум ЦИК проявил исключительную оперативность. Ходатайства осужденных по данному делу были рассмотрены немедленно. Ни одно из них удовлетворено не было. Приговор остался в силе.
Зиновьева люди Ягоды несли на расстрел на носилках. До последнего своего мгновения он просил свидания со Сталиным, молил о пощаде, валялся в ногах у конвоиров.
«Перестань же, Григорий, - промолвил Каменев - Умрем достойно».
Когда же пришло его последнее мгновение, Каменев не просил ни о чем и принял смерть молча.
Неужели он осознал, что его действительно настигла кара, как соучастника колоссального заговора против целой страны - России, - осуществленного 7 ноября 1917 года.
ХРОНОЛОГИЯ
Первый Московский процесс над 16 членами так называемого «Троцкистско-Зиновьевского Террористического Центра» состоялся в августе 1936. Основными обвиняемыми были Зиновьев и Каменев. Помимо прочих обвинений, им инкриминировалось убийство Кирова и заговор с целью убийства .
Второй процесс (дело «Параллельного антисоветского троцкистского центра») в январе 1937 прошёл над 17 менее крупными функционерами, такими как Карл Радек, Юрий Пятаков и Григорий Сокольников. 13 человек расстреляны, остальные приговорены к длительным срокам заключения.
Третий процесс в марте 1938 состоялся над 21 членами так называемого «Право-троцкистского блока». Главным обвиняемым являлся Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна, также бывший председатель Совнаркома Алексей Рыков, Христиан Раковский, Николай Крестинский и Генрих Ягода - организатор первого московского процесса. Все обвиняемые, кроме трёх, казнены.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И “БОЛЬШАЯ ЧИСТКА” В ПАРТИИ
1 декабря 1934 г. в Смольном был убит первый секретарь ленинградского обкома, секретарь ЦК, член Оргбюро и Политбюро ЦК ВКП(б) С. М. Киров. Впоследствии назывались различные силы, стоявшие за убийцей Кирова Николаевым: в числе организаторов упоминались последовательно белогвардейцы, зиновьевцы, троцкисты, а в период разоблачения культа личности – И. В. Сталин. Являлся ли Николаев убийцей-одиночкой, мстящим за свою неудавшуюся жизнь, или же Киров стал жертвой политического заговора, – обстоятельства покушения не дают четкого ответа на этот вопрос. Самим же фактом убийства видного функционера партии прежде всего воспользовался Сталин. Убийство Кирова дало Сталину возможность провести чистку партии и государственных органов от всех лиц, заподозренных в нелояльности режиму и к нему лично.
1 декабря 1934 г. Президиумом ЦИК СССР было принято постановление, согласно которому следственным органам предписывалось вести дела обвиняемых в подготовке террористических актов в ускоренном порядке, в десятидневный срок, с немедленным исполнением приговора. Обвинительное заключение вручалось за день до суда. Присутствие адвоката, открытость процесса и право на обжалование приговора не допускалось. Первой жертвой разворачивающихся репрессий стал Ленинград, где по обвинению в потворстве оппозиции было отстранено от руководства городом кировское окружение. 22 декабря 1934 г. ТАСС сообщило о раскрытии "ленинградского центра" во главе с бывшими зиновьевцами, причастными якобы к убийству Кирова. Закрытый процесс над членами выявленного "центра" проходил 21-29 декабря 1934 г. Обвиняемые были приговорены к высшей мере наказания; объявлялось о существований руководящего "московского центра" в составе 19 человек во главе с Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым, проживающими в Москве. С некоторым запозданием, 23 января 1935 г., начался процесс над двенадцатью руководителями ленинградского отдела НКВД, обвиненными в преступной халатности. Несмотря на серьезные обвинения, наказание было относительно мягким - дело ограничилось служебными перемещениями, понижениями в должности. В сопоставлении с судьбой членов "ленинградского центра" подобный приговор являлся формальным наказанием, что было вызвано необходимостью сохранения поддержки НКВД в намечавшихся репрессиях.
16 января 1935 г. Зиновьев и Каменев "признали моральную ответственность бывших оппозиционеров" за свершившееся покушение и были соответственно приговорены к пяти и десяти годам лишения свободы. На основании признания бывших вождей оппозиции в СССР разворачивается очередная кампания по выявлению оппозиционеров и лиц, им сочувствовавших. На ключевые места назначаются сторонники Сталина: А. А. Жданов возглавил ленинградскую, а Н. С. Хрущев московскую парторганизации. Генеральным прокурором СССР становится А. Я. Вышинский. Начальник управления кадров Секретариата ЦК Н. И. Ежов переводится на пост председателя Центральной контрольной комиссии (ЦКК) и избирается Секретарем ЦК. В 1935-1936 гг. под его руководством проводится обмен партийных билетов, в результате которого примерно 10% членов партии были из нее исключены. Произведенные перемены в партийном аппарате позволили Сталину укрепить свои позиции в преддверии намечавшихся политических процессов.
19 августа 1936 г. начался первый открытый московский процесс, где в качестве обвиняемых проходили Зиновьев, Каменев, Евдокимов и Бакаев, осужденные за пособничество терроризму в январе 1935 г., а также несколько видных в прошлом троцкистов – И. Н. Смирнов, С. В. Мрачковский и другие лица, ранее участвовавшие в оппозиции режиму. Обвиняемые "признали" свое участие в осуществлении убийства Кирова, в подготовке аналогичных акций против других руководителей партии, "подтвердили" наличие широкого антисоветского заговора и указали на свои "связи" с другими оппозиционерами, находившимися еще на свободе М. П. Томским, Н. И. Бухариным, А. И. Рыковым, К. Б. Радеком, Г. Л. Пятаковым, Г. Я. Сокольниковым и др. В обстановке политической травли и массовых репрессий 22 августа 1936 г. Томский покончил жизнь самоубийством. 24 августа всем главным обвиняемым на Московском процессе был вынесен смертный приговор. Прозвучавшие на суде обвинения давали повод для расширения репрессий, но в силу сопротивления ряда членов Политбюро и отчасти местной партийной элиты, расправа над оппозицией была отложена на период обсуждения и принятия Конституции 1936 г. Временно отказываясь от подавления оппозиции в центре, Сталин концентрирует свое внимание на кадровых вопросах. Учитывая колеблющуюся позицию главы НКВД Г.Г. Ягоды, близкого к оппозиции, Сталин 26 сентября 1936 г. заменяет его на этом посту хорошо зарекомендовавшим себя в ходе партийных чисток Н. И. Ежовым. Обосновывая кадровые перемены, Сталин указывал: "Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздало в этом деле на 4 года". В октябре 1936 г. последовали аресты Пятакова, Сокольникова, Серебрякова, Радека, а также ответственных работников транспорта и угольной про-шышленности. Намечавшийся процесс должен был покончить не только с политической оппозицией, но и возложить на нее ответственность за экономические просчеты первых пятилеток.
23 января 1937 г. открылся второй Московский процесс, где главными обвиняемыми были вышеуказанные лица. Как и во время предыдущего процесса, обвинение строилось на признаниях подсудимых, но теперь уже в дополнении к терроризму добавлялись признания в политическом и экономическом саботаже. Суд над "Московским параллельным антисоветским троцкистским центром" открывал, таким образом, путь к расправе с народнохозяйственными и партийными кадрами, которые подвергали сомнению курс на ускоренную индустриализацию и дальнейшую централизацию управления страной. Второй Московский процесс продолжался неделю и закончился приговором: 13 обвиняемых - к смертной казни и 4 человек – к длительным срокам заключения (в том числе Радек и Сокольников, которые в мае 1939 г. были убиты сокамерниками). 18 февраля 1937 г. покончил жизнь самоубийством Г. К. Орджоникидзе, выступавший против репрессий в промышленности.
Пленум ЦК ВКП(б) 25 февраля – 5 марта 1937 г. подтвердил курс на разоблачение врагов народа, шпионов и вредителей, проникающих, согласно Сталину, во "все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные". Наиболее четко на пленуме была сформулирована сталинская теория о непрерывном усилении классовой борьбы по мере успехов строительства социализма в СССР, На пленуме была также "принята резолюция об исключении из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и членов ВКП(б) Бухарина и Рыкова и о направлении их дел в НКВД. Репрессии против бывших оппозиционеров перерастают в массовый террор против партии, ставящей целью ее окончательное огосударствление, подчинение режиму личной власти Сталина. Особенно показательна в этом плане судьба делегатов XVII съезда ВКП(б) (1934 г.), еще недавно провозглашавшего полную победу над всякой оппозицией. Из его состава будут репрессированы 1108 из 1961 делегата.
И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России
Л. ФЕЙХТВАНГЕР О МОСКОВСКИХ ПРОЦЕССАХ
Помещение, в котором шел процесс, невелико, оно вмещает, примерно, триста пятьдесят человек. Судьи, прокурор, обвиняемые, защитники, эксперты сидели на невысокой эстраде, к которой вели ступеньки. Ничто не разделяло суд от сидящих в зале. Не было также ничего, что походило бы на скамью подсудимых; барьер, отделявший подсудимых, напоминал скорее обрамление ложи. Сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали в публику. По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью. Короче говоря, гипнотизеры, отравители и судебные чиновники, подготовившие обвиняемых, помимо всех своих ошеломляющих качеств должны были быть выдающимися режиссерами и психологами.
Л. Фейхтвангер. Москва 1937.
В 1988 году приговор был отменен, а все осужденные реабилитированы за отсутствием в их действиях состава преступления.
Энциклопедичный YouTube
-
1 / 5
Дело о так называемом «Антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре» рассматривалось Военной коллегией Верховного суда СССР на открытом судебном заседании в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов . 19 августа 1936 года Военная коллегия Верховного суда под председательством армвоенюриста В. В. Ульриха в составе членов корвоенюриста И. О. Матулевича , диввоенюриста И. Т. Никитченко , диввоенюриста И. Т. Голякова при секретаре военюристе первого ранга А. Ф. Костюшко при участии прокурора А. Я. Вышинского приступила к рассмотрению дела.
Подсудимые составляли две не связанные между собой группы.
В одну группу входили известные большевики, участвовавшие в 1926-1927 гг. в «объединенной оппозиции »:
- Фриц-Давид (И.-Д. Круглянский)
- К. Б. Берман-Юрин
- Н. Л. Лурье
Они обвинялись в том, что, будучи якобы членами подпольной троцкистско-зиновьевской террористической организации, являлись активными участниками подготовки убийства руководителей партии и правительства.
По мнению обвинения, осенью 1932 года подпольная троцкистская организация в СССР, выполняя указания Л. Д. Троцкого из-за границы, объединила усилия с подпольной зиновьевской организацией. Образовался «объединённый центр», в котором троцкисты были представлены Смирновым, Мрачковским и Тер-Ваганяном, а зиновьевцы - Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым и самим Зиновьевым. Конечная цель их была - захват власти. Как утверждало обвинение, заговорщики не тешили себя надеждой заручиться поддержкой народа, ибо под руководством Сталина СССР успешно строил социализм. Оставалось только одно - убить Сталина и других вождей партии и правительства .
Всё началось в марте 1932 г., когда Троцкий в открытом письме (экземпляр которого нашёлся между двойными стенками чемодана Э. С. Гольцмана) выступил с призывом убрать Сталина, то есть убить его. Троцкий из Норвегии заправлял всем заговором, а главными заговорщиками в СССР являлись Зиновьев и Каменев (которые с конца 1932 до 1933 года отбывали ссылку, а в -1936 годах находились под арестом и даже недолгое время на свободе оставались под неусыпным наблюдением ОГПУ). Шифрованные донесения от Троцкого заговорщикам якобы передавал Смирнов (который с января 1933 г. сидел в тюрьме). По материалам обвинения центр дал команду группе Николаева-Котолынова убить Кирова в Ленинграде. Планировалось ещё много покушений, но каждый раз выходила осечка. Выполняя указание Смирнова, Гольцман якобы встретился осенью 1932 г. с сыном Троцкого Львом Седовым и самим Троцким в копенгагенском отеле «Бристоль». Именно там последний и сказал, что Сталина необходимо убить («убрать»). В 1934 году Бакаев, Рейнгольд и Дрейцер дважды пытались выполнить эту установку, но безуспешно. В 1935 г. Берман-Юрин и Фриц Давид хотели убить Сталина на VII конгрессе Коминтерна , но у них ничего не вышло: первого просто не пустили в здание, а второй хотя и прошёл со своим браунингом, но не мог подойти на расстояние выстрела. Повинуясь переданному Седовым приказу Троцкого, Ольберг хотел застрелить Сталина на первомайских торжествах 1936 года , но не смог, так как был арестован до Первомая. Натану Лурье не удалось выполнить задание - убить Кагановича и Орджоникидзе , когда они приехали в Челябинск. Потом он не застрелил Жданова на первомайской демонстрации в Ленинграде в 1936 г. только потому, что оказался слишком далеко от него. Готовились покушения на Ворошилова , Косиора и Постышева , но все попытки провалились .
Единственным представленным суду вещественным доказательством, если не считать признаний самих подсудимых, был фальшивый гондурасский паспорт Ольберга. Единственной свидетельницей выступила бывшая жена Смирнова А. Н. Сафонова, которая сама была под следствием по обвинению в участии в заговоре. Один из обвиняемых, Гольцман, признался в том, что он в 1932 г. встретился в копенгагенском отеле «Бристоль» с сыном Л. Д. Троцкого Львом Седовым, где последний передал ему инструкции Троцкого. В довершение всего Л. Д. Троцкий представил комиссии Дьюи, заседавшей в Мексике в начале 1937 г., документы, неопровержимо доказывавшие невозможность пребывания его сына Седова в Дании в 1932 г. Генеральный план террористических действий - письмо Троцкого от 1932 г. с требованием «убрать» Сталина посредством его убийства оказалось всего лишь «открытым письмом», написанным Троцким в марте 1932 г. и напечатанным в «Бюллетене оппозиции». В письме Троцкий, отвечая на вышедший в феврале указ о лишении его и членов его семьи советского гражданства, обвинял Сталина в том, что его курс заводит партию и страну в тупик, и в заключение писал: «Нужно наконец выполнить последний настоятельный завет Ленина - убрать Сталина». Таким образом, как писал «Бюллетень» в конце 1936 г., Ленин оказался первым террористом. Однако на мнимом тождестве слов «убрать» и «убить» строилось всё обвинение (в 1956 году Сафонова сообщила в Прокуратуру СССР, что её показания, как и показания Зиновьева, Каменева, Мрачковского, Евдокимова и Тер-Ваганяна, «на 90 процентов не соответствуют действительности»; условные 10 процентов правды - реальная оппозиционная организация , существовавшая в 1931-1932 годах, реальные встречи, в других местах и с другими целями, номера «Бюллетеня оппозиции», найденные при аресте в чемодане Гольцмана, и т. д. - и легли в основу «террористического» сюжета ).
Предъявленные обвинения признали почти все подсудимые, за исключением И. Н. Смирнова и Э. С. Гольцмана, которые, как и на предварительном следствии, продолжали отрицать какую-либо свою причастность к террористической деятельности, хотя и были готовы подтвердить участие в работе подпольной оппозиционной организации (тем более что И. Смирнов ещё в 1933 году был осужден за это к 5 годам лишения свободы). Все 16 подсудимых были признаны виновными, 24 августа 1936 года их приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. 25 августа 1936 года приговор привели в исполнение.
Пропагандистская кампания
После заявления Прокуратуры СССР 15 августа 1936 года о предстоящем суде в печати стали публиковаться многочисленные статьи и резолюции с осуждением «троцкистско-зиновьевской банды» . Так, например, 17 августа в «Правде» публикуется статья «Страна клеймит подлых убийц». В ходе процесса газета «Правда» ежедневно печатала его стенограмму. 20 августа «Литературная газета » выходит с редакционной статьей «Раздавить гадину!». 21 августа в газете «Правда» выходит коллективное письмо «Стереть с лица земли!», подписанное 16 известными писателями (подписанты: В. П. Ставский , К. А. Федин , П. А. Павленко , В. В. Вишневский , В. М. Киршон , А. Н. Афиногенов , Ф. А. Панфёров , Л. М. Леонов) . После вынесения приговора также публиковались многочисленные резолюции с его одобрением.
Пример фразеологии 1936 и 1937 годов из передовиц журнала «Вестник Академии наук СССР »:
В дни процесса эта подлая банда убийц, еще осквернявшая своим существованием советскую землю, с деловитостью профессиональных убийц рассказывала суду об осуществленных и подготовлявшихся ею злодеяниях. Отребье человечества, об’единившееся в троцкистско-зиновьевский центр, они использовали для своей подлой деятельности еще невиданные в истории методы провокации, предательства и лжи; все наиболее бесчестное и преступное из грязнейших арсеналов подонков человечества было избрано ими в качестве орудия борьбы. Годами плелась сеть провокаций, диверсий, шпионажа и подготовки убийств. Смерть любимого народного трибуна, пламенного борца за дело Ленина-Сталина, обаятельного человека Сергея Мироновича Кирова - дело этих трижды презренных убийц. Нет преступлений, которые бы не числились в признаниях Зиновьева, Каменева, Евдокимова, Смирнова, Бакаева и прочих убийц. И все они неразрывно связаны с именем главного преступника и вдохновителя всех этих злодеяний, с именем и делами Иуды Троцкого. Это он - Троцкий об’единил убийц в троцкистско-зиновьевский центр для осуществления террора против великих вождей коммунизма. Это он - Троцкий совместно с германской тайной фашистской полицией (Гестапо) плел шпионскую диверсионную сеть на важнейших участках народного хозяйства и обороны социалистической страны. Это он - Троцкий провоцировал войну против Советского Союза, мечтая захватить власть в свои руки. Презренный Иуда заклеймен судом истории, как подлый предатель и главарь убийц.
ВРАГИ НАРОДА
Семь дней длился судебный процесс над антисоветским троцкистским центром и участниками антисоветской троцкистской организации.
Семь дней Верховный суд Союза ССР, а с ним и все народы великой страны социализма, нить за нитью распутывали клубок грязной, крова¬вой деятельности презренных предателей родины, шпионов, диверсантов, прямых агентов фашистских разведок.
Перед лицом всего мира на судебном следствии развернулась потря¬сающая картина преступлений, совершенных этими наймитами империали¬стического капитала по прямой указке злейшего врага народа - иуды Троцкого.
Азефы и Малиновские казались младенцами и простаками, когда из гнойных уст непревзойденных мастеров двурушничества и предательства сочились цинично-развязные показания о содеянных ими преступлениях. Во всей истории человечества нельзя найти примеров более низкого и бо¬лее подлого падения, где так цинично попирались бы основные законы человеческого общежития и человеческой морали.
ЗАГРИМИРОВАННЫЙ СТАЛИН
В первый же день встречи с Зиновьевым мы спросили его про «убийцу Кирова» - Николаева: знал ли он его лично и давали ли ему приказание стрелять в Кирова?
Конечно, нет! - воскликнул Зиновьев. - Николаева я не знал и никогда не видел. Теперь мне говорят, что он был в нашей оппозиции и будто жена его была секретарем у Кирова. Это все возможно. Но я никогда никому не приказывал убивать Кирова. Эту ложь сочинил сам Сталин, чтобы было легче с нами расправиться. Кирова убила иностранная разведка. А может, и наша по приказу Сталина.
Мы поверили словам Зиновьева. Мы понимали, что он не мог быть причастен к убийству. Его убеждения, честь и разум были против индивидуального террора. Смерть к Кирову пришла оттуда, откуда она пришла к Фрунзе. Оба они пали жертвой соперничества за властный пост генсека, за верховную власть в стране.
Ленинградский процесс проходил при закрытых дверях. Посторонних на процессе никого не было. В зале суда сидели около 500 чекистов в военной форме. Это были началь-
- 182 -ники областных и республиканских управлений ОГПУ, вызванные на процесс для знакомства с новой судебной практикой по расправе с политическими противниками. Здесь же был и председатель ОГПУ Ягода. Он очень нервничал и все время посматривал на дверь. По неизвестной причине задерживалось заключительное заседание суда с выступлениями подсудимых. Даже судьи не знали истинной причины.
Но вот Ягода быстро направился к двери. Ему навстречу шел неизвестный человек, восточной национальности, похожий на иностранца. Никто никогда раньше его не видел. Полагали, что он, возможно, приехал из коммунистического подполья с Востока.
Ягода был весьма учтив с гостем. Он усадил его в кресло в стороне от людей. После этого открылось заключительное заседание суда.
На скамье подсудимых сидела старая ленинская гвардия: Зиновьев, Каменев, Залуцкий, Евдокимов, Саркис, Гессен, Бакаев, Ваганян и другие, чьи головы много раз побывали под дулом пистолетов в трех русских революциях. На скамье подсудимых не было только главного обвиняемого - платного агента ОГПУ Николаева. Этот наемный убийца был опасным свидетелем, и его быстро убрали с дороги.
С последним словом выступил Зиновьев. Он был сильно взволнован и поэтому говорил несвязно. Его разволновал в самую последнюю минуту таинственный незнакомец, «гость», в котором он узнал загримированного Сталина. Генсек в гриме смотрел из зала на Зиновьева, как удав на свою жертву.
Душевные силы Зиновьева не выдерживали этого нервного напряжения. Он хотел, но не решился разоблачить настоящего убийцу Кирова, которого увидел сейчас в этом зале суда в гриме.
У него случился сердечный приступ, и он рухнул на пол.
Суд прервал заседание на полчаса.
После перерыва Зиновьев продолжил свою речь кающегося грешника в не совершенных им грехах.
- 183 -Было стыдно видеть Зиновьева в состоянии полного душевного кризиса. Не хотелось верить, что соратник Ленина и председатель Коминтерна мог дойти до такой черты падения.
Сталинские судьи сделали свое черное дело - сломали волю и растлили душу одного из самых выдающихся деятелей русского большевизма. Загримированный Сталин ликовал, наблюдая падение своего политического противника.
Сталину было известно, что, когда чекисты пришли арестовывать Зиновьева, он взволнованно воскликнул: «Это ТЕРМИДОР! Революция погибла!»
Теперь Сталин смеялся над поверженным русским Робеспьером.
После Зиновьева с последним словом выступил Каменев. Его речь была сдержанной и убедительной. В эту роковую минуту он защитил честь оппозиции и свое человеческое достоинство. Он обладал критическим умом, за что его любил Ленин и всегда приближал к себе. Каменев был заместителем Ленина одновременно в Совнаркоме и в СТО и нередко представлял его на заседаниях Политбюро.
В своей двухчасовой речи Каменев сказал такие слова: «Французским эбертистам история не дала времени обдумать свои ошибки. Они погибли на гильотине. Нам история дала много времени, но мы не воспользовались им и не приняли нужного решения. В этом мы виноваты...» (цитирую по памяти).
Во время перерыва к Каменеву подошел Ягода и попросил скорее исправить свою стенограмму. Эта поспешность Ягоды взволновала подсудимых. Они решили, что Сталин торопится покончить с ними, а для истории хочет оставить исправленную стенограмму.
«Они нас расстреляют», - думали все подсудимые, в том Висле и Каменев. Он начал править стенограмму, но от волнения у него дрожали руки. Одна большая чернильная клякса упала и залила страницу стенограммы, подлежащую исправлению.
Каменев смущенно глядел на Ягоду и виновато молчал. После небольшой паузы Ягода с напускной веселостью, улы-
- 184 -баясь, сказал Каменеву: «Вы, Лев Борисович, сегодня что-то не в духе. Ну, ладно, завтра исправите». Он взял обратно стенограмму и отошел в сторону.
По рядам подсудимых пробежала искра надежды: «Нет они нас не расстреляют».
Да. Тогда их не расстреляли. Их приговорили к тюремному заключению на разные сроки.
ИХ РАССТРЕЛЯЛИ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА - В КРОВАВОМ 1937-м...
У Сталина в тот год было много «работы». Он истребил всю старую гвардию, всех знавших, какими подлыми путями он добрался до «необъятной власти» генсека, всех читавших предсмертные документы и «Завещание» Ленина.
Он не оставил могил бойцов старой гвардии на земле, он был уверен, что память о них исчезнет бесследно. Сам он решил устроиться поудобнее в мавзолее, потеснив и там Ленина своим величием...
НО СТАЛИН ЖЕСТОКО ОШИБСЯ. Уже при жизни он писал свою нечистую историю, приукрашивая ее лживыми версиями и баснями о своей гениальности и дальновидности, исторической правоте и тому подобном.
Высокомерно и самоуверенно он изрекал «истины», которые приравнивались его глашатаями к законам истории. Он не боялся суда будущего. Он был уверен, что никто не посмеет его судить. Он надеялся на своих подхалимов, которые, по его мнению, не дадут его, мертвого, в обиду, как не давали при жизни.
Но он жестоко ошибся.
Избавившись от него, человечество вздохнуло свободнее. А его вчерашние глашатаи и ученики стали обливать его грязными помоями, которые он оставил после себя, купаясь в них и умываясь кровью миллионов погибших от его руки, от его интриг, от его заигрывания с нацистами.
Распинаясь за «русский народ», он произносил за него торжественные тосты, но был совершенно чужд этому народу, не знал его историю и не понимал настоящую русскую душу. Русский народ не простил Борису Годунову только одну НЕВИННУЮ ДУШУ, НЕВИННУЮ ЖЕРТВУ. А у палача Сталина этих жертв были сотни тысяч и миллионы. Их ему русский народ никогда не простит.